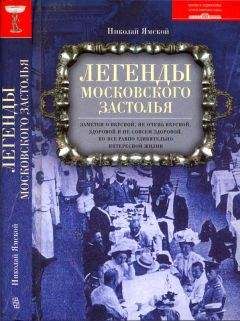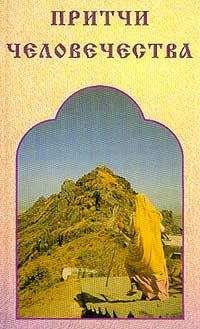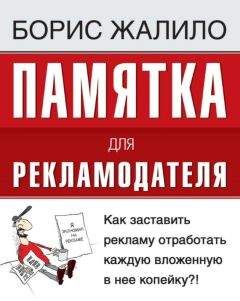Один из них вчера до двух часов ночи рассказывал мне, попивая пиво, с каким количеством женщин переспал за последний месяц. Ему хорошо, он — безработный…
«Друзья — воры времени», как хорошо сказал один нехороший ирландец.
И они всегда возвращаются на место преступления.
Но почему бы их не посадить за решетку…
Уже на рассвете он выследил последнего таракана и раздавил его монаршей пятой. Из дырок душа лился остывший кофе. Наволочка, набитая свитерами, скорчилась под мокрым шаром королевской головы. И наступило утро.
Королева звенела ложечкой о края стакана в купе скорого поезда, навсегда уходящего на запад. Чай в стакане багрово улыбался.
Принцесса сидела на чистеньком желтом унитазе в тесном туалете своей комнаты–квартиры, уронив похмельную голову на колени. Спутанные темно–русые волосы висели перед глазами.
Принц подивился прохладе и запер цветочный киоск, который охранял по ночам.
Будущий босс свинтил пробку с потной бутылки «Обуховской» и приложился, левой рукой гладя себя по голому волосатому животу.
Все обрастали деталями, входили во множества, совершали взаимно согласованные действия. А безработный король спал на скомканных свитерах.
* * *
Будучи изгнан и заточен в своем изгнании, по ночам он сочинял театральные монологи, долженствующие подчеркнуть его значительность и, так сказать, непреходящесть. Дело в том, что с малых лет он понял одну простую вещь: быть королем — вот единственное поприще, достойное человека в этой жизни. Если ты не король — ты вообще никто. Но если ты король — это заметно сразу. По твоим рубашкам, по твоим милашкам… По твоим повадкам и неполадкам. И уж никакого значения не имеет, кто ты официально, в миру — официант или, например, бродяга.
— Так и вижу какого–нибудь придурка–психотерапэвта, — злобно говорил он этой ночью потолку своей спальни, — какого–нибудь хмуро–серьезного или, один черт, цинично–веселого социолога–затейника, качающего головой: «Шизофрения, как и было обещано…» Милок, а кто ты такой, чтобы судить обо мне со своей лекарственной колокольни? Что ты ЗНАЕШЬ, чего ты ДОБИЛСЯ? Чего добиваешься сейчас? Что ты любишь, а к чему просто привык? Что ты ненавидишь, а чего просто боишься? Расскажи мне о себе, и мы поспорим, кто из нас более нормален — я, воображающий себя королем, или ты, тянущий до старости ебливым ухоженным клерком. Я и в подлой жизни высокомерен и неприятен, как любой король, и нет человека или Бога, на которого я бы смотрел снизу вверх; ты и в самых буйных фантазиях своих утеплен женщинами и друзьями, а поверху для верности обит суконной традицией: потому что без этого ты зябнешь, без этого ты — слякоть…
Его собственное настоящее было, конечно, согрето — отсутствием чужого льда. Уже нечего разбивать между собой и другими людьми, уже все разбито…
Что же, есть повод пить коктейли со льдом.
* * *
Принц, принцесса и будущий босс встретились на условленном крылечке, пообедали вместе и договорились его доконать.
Принцесса позвонила и сказала, что больше звонить не будет. Еще — что у нее жутко болит голова и что она сожалеет о случившемся.
Принц погромыхал в железную дверь и сунул открывшему в нос флакон покупного одеколона. Цветы же только показал, достав букет из–за спины, и тут же, выйдя на улицу, растоптал тяжелыми лесными башмаками. На асфальте остались цветные пятна.
Будущий босс прислал деловую документацию и в сопроводительной записке сухо уведомил, что с сегодняшнего числа король принят на службу в качестве шута.
Король побрился и погладил единственную в своем гардеробе цветную рубашку…
* * *
Ничего не получается. Выдумать можно что угодно, и вариативность делает выдумку бессмысленной. Принцессу можно утопить в унитазе, а принца сделать будущим боссом — толку–то что? Реально же НИЧЕГО не происходит, все только тянется, рвется и путается. То, у чего можно вычленить начало, середину и конец — неинтересно, потому что незначительно. По–настоящему значительны ПЕРЕМЕНЫ, происходящие с людьми и в отношениях между людьми, но как их передать? Просто зафиксировать разницу множества показателей? Это похоже на построение параболы, отдает алгеброй, мелом скрипит на зубах…
А между тем перемены действительно есть, и перемены убийственные, обескураживающие, уничтожающие. Особенно если учесть, что во всем уже написанном не содержится ни грамма выдумки.
* * *
Скорый поезд, в котором на запад ехала королева, упал с моста в реку. Река багрово улыбнулась.
И время потекло вспять.
РАД БЫ В АД, ДА НЕ ПУСТЯТ НАЗАД
Попадешь на жернова железной мельницы, измелют твою душу в муку неведомого сорта. Корми потом убогеньких облатками да таблетками: «Это плоть моя…»
Плоть от плоти, кровь от крови — врозь, и началось: Адам любил Лилит, но она рожала ему демонов; Адам любил Еву, но она ела его яблоки. Не везло мужику с бабами. Зато детки пошли — хоть куда; младшенького Авелем звали…
Его, наверное, дразнили: «Авель–щавель». Кто дразнил? Ну, местные мальчишки, шпана. Демоны Лилит. Косоглазенькие, лопоухенькие, шепелявенькие…
Человеческая история — история высокомерия и предательства. Адам и Лилит; Каин и Авель; Юдифь и Олоферн; Давид и фараон; Иуда и Христос. Вернее, так: Иуда, Христос и Пилат. Некто третий, который «ни при чем» и «по ту сторону». Сегодня Пилат сказал бы Христу: «Это твои проблемы». Или: «Это не моя головная боль».
Долгое время такой подход казался мне единственно верным. Зачем подавать милостыню занюханным мальчишкам? Пусть озлобятся, вернее выживут — ведь мир зол.
И невдомек, что они уже — озлобились. Иди–ка сам попроси…
Но зачем — сострадание? Деревья не соболезнуют пенькам, здоровые крысы рвут больных на паштет и холодец. «Девятка» влетела передним колесом в открытый люк на перекрестке, водитель «Москвича» цепляет к бамперу трос и ухмыляется: «Лобовое полетело…» Это — мелочи; когда в центре города расстреляли инкассаторов, проходящие трамваи кренило в сторону огромной лаково–багровой лужи на асфальте — пассажиры прилипали к окошкам и сострадали комариным шепотом. Боль утраты: «Наливай еще по одному, ведь он не вышел, он совсем ушел…» Боль заливается водочкой, сверху посыпается свежепорубленным лучком, и — эх! отлегло, кажись… Однажды я был на похоронах приятеля: на обратном пути в автобусе травили анекдоты и обсуждали, какая будет кутья. Больше на похороны не хожу. А на свадьбы не зовут. Да ведь и свадеб уже не играют…
История человека — история преданного доверия. Родители выпихивают в мир, мир выпихивает в ад. Или в рай — если не сопротивляешься. И никто не запасается временем и терпением, чтобы толком тебе объяснить предстоящее. «Сынок, мы на тебя возлагаем…» Благие намерения — вот что они на тебя возлагают. Как вериги. Они не любят тебя — они дышат тобою, живут тобой. Они зажились на свете…
Был паренек, с детства весь из себя олимпиец — первые места на олимпиадах по физике, химии, литературе… Никак не мог определиться, что же ему больше всего любо–дорого; потом определился — «Анапа» из ларька. Так бы и пил до сих пор, из принципа: «Россия к чертям катится, а мне карьеру делать?!» Да однажды глянул в зеркало — а оттуда Понтий Пилат зыркнул, будто по сердцу жидким азотом. Умыл руки, лицо умыл, причесался… Мать теперь невестке пеняет:
— Как уехал в другой город, будто подменили его. Такой ласковый был мальчик, такой хороший…
— Когда, мама? — встревает нервно курящий у окна ренегат. — Когда меня соседи с верхнего этажа приносили?
Он там спал, за трубой мусоропровода… В мелу открытий… В пылу демисезонного запоя…
Он был тогда честным. Его все любили. Теперь любит только жена. Но боится говорить об этом вслух: любовь зла…
Зачем — страдать? Каждый раз прилепляешься к человеку, а потом из тебя будто ребро выдергивают раскаленными клещами. Рождаешься один и умираешь один, что толку — по дороге связываться? Слепой везет кривого на плечах, сучок выбивает поводырю последний глаз:
— Приехали.
— Здравствуйте, девочки! — щерится слепой.
«И вдруг колокола, взорвавшись в диком звоне, возносят к небесам заупокойный рев, как будто бы слились в протяжно–нудном стоне все души странников, утративших свой кров…» Душка Бодлер, сластолюбец–монах, преданный матерью и друзьями. «Тогда в душе моей кладбищенские дроги безжалостно влекут надежд погибших рой — и смертная Тоска, встречая на пороге, вонзает черный стяг в склоненный череп мой».
Но их не помнят. Злых поэтов не помнят. Разве что другие злые поэты. Был чудесный поэт Ходасевич, но кто ж из него что–нибудь прочтет шепотом, на скамеечке, в дыму и сладком безумии цветущих яблонь? «Я здесь учусь ужасному веселью — постылый звук тех песен постигать, которых никогда и никакая мать не пропоет над колыбелью». Да, мамы нам пели совсем другое… Мороз и солнце — день чудесный, зима — крестьянин торжествует, мой дядя — самых честных правил… Школьная программа. Потом телепрограмма — обводишь кружочками обреченные часы своей жизни, — а на последней странице некролог. Примерно следующего содержания: «Никем, ничем он не бывал, вне позы — не существовал. Лежит он бессердечным прахом: успех — сполна, провал — с размахом!»