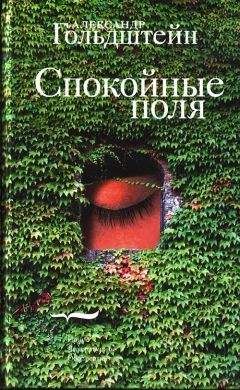— Но и для этих людей вы — знаменитый художник московского андеграунда…
— Я не понимаю, что это такое, знаю лишь то, что тот период канонизирован и у меня в этой канонизации есть свое место. До бульдозерной выставки в Москве было всего двадцать или тридцать художников андеграунда, после выставки их в один день объявилось несколько тысяч. Затем, в период перестройки и нашумевшего московского «Сотбиса», в советскую столицу хлынули западные дилеры, отбиравшие вещи двух направлений: либо удобный для Запада соц-арт с его популярной иллюстрацией совершавшихся в стране политических изменений, либо работы, отвечающие стилистике того, что уже было представлено на рынке. Все прочее, не попадавшее ни в одну из двух категорий, безошибочно отвергалось и было забыто на десять лет — в отвергнутый разряд попали Краснопевцев, Яковлев, оказался там и я. Сейчас эти десять лет закончились, прошлое исчезает на глазах, 60-е подняты, размещены под торжественным знаменем, и я, как уже было сказано, занимаю в них какое-то место.
— Несмотря на трудности с продажей современного искусства, оно не сдает своих позиций в колоссальном коммерческом механизме производства и сбыта. Как это выглядит в Париже?
— Сравнительно недавно в галерее «Клод Бернар» состоялась большая, невероятно разрекламированная выставка знаменитого Сезара. В результате — почти ничего не было продано. Галерейная публика его не покупает, основной источник дохода такого художника — или государственные заказы за очень большие деньги, или спонсоры, но не частники, а особые их кооперации, корпорации, акционерные общества, словом, масса всевозможной, как говорили в России, халявы, которой прекрасно пользуются Сезар, Арман и им подобные. Об этом во Франции был сделан фильм — про Армана и его галерейщика. Страшный, разоблачительный фильм, они оба чудовища, педантично показано, как они выглядят, выражаются, строят свое поведение, весь ужас их хитрой, циничной вульгарности, впечатление, будто снимали скрытой камерой, больше всего это смахивает на пьесу Мольера — настоящие мольеровские персонажи, два Тартюфа. В другой картине, аналогичной направленности и с характерным названием «Современное искусство — это липа», главным героем выбран Баскиа, чернокожий художник, автор граффити, работавший с Уорхолом. Пару лет назад о них было игровое кино, на сей раз документальное, и тот же сильный эффект, что от зрелища об Армане. Осознание нестерпимости ситуации нарастает, нечто должно переломиться, это невозможно более скрыть, уже и директор музея Пикассо опубликовал на сей счет несколько статей, в самых мрачных тонах обрисовывающих кризисную констелляцию.
— Присутствует ли в вашем сознании воображаемый облик собственной публики, адресата ваших посланий и обращений?
— Да, я свою публику знаю, это образ абсолютно конкретный! Люди без предрассудков, не зажатые в рамки, — их, конечно, немного. У меня были большие ретроспективы в Москве, в 78-м и 87-м, и поразительно, как четко, на две группы, будто разрезанные невидимой границей, делились отзывы. В первой собрались высказывания шизофренические, ругательные, хулиганские, непременно без подписи или подписанные так: «Женщина»; во второй — умные, интеллигентные, нередко принадлежащие зрителями в провинции, как сейчас помню душераздирающие отклики приехавших из Архангельска, они, скорее всего, и современного искусства дотоле ни разу не видели. Однажды в мою московскую мастерскую, в подвал, где на стене висел большой белый триптих, пришел с ключами и трубами слесарь-татарин из ЖЭКа и, уставившись в эту работу, буквально остолбенел. Долго стоял, не в силах от нее оторваться, а на вопросы мои отвечал: «Ну как же, я понимаю, я тут все вижу, вот женщина, вот море». Я это на всю жизнь запомнил как потрясающее откровение: человек абсолютно неподготовленный, откуда-то из деревни, но не загороженный пластмассовой культурой, не сдавленный городской цивилизацией, с настоящим архаическим чувством — и его пробило, он понял.
На Западе публика примерно та же, что и в Москве, разве только снобов побольше, но когда я впервые попал в парижскую консерваторию, то поразился сходству: знакомые лица, похоже одеты. Мне кажется, что процент живого, нонконформистского, не убитого догмами населения всюду приблизительно одинаков, вероятно, это процент биологически заданный и оправданный.
— И напоследок: распознаете ли вы реальные симптомы гниения не только привычной коммерческой вакханалии, но и старой системы как таковой — музейной, галерейной, навек утвердившейся в неподвижности своих презентаций, и что должно случиться, чтобы функционирующий аппарат обвалился, рассыпался, рухнул, словно какая-нибудь до конца доигравшая машина Тингели?
— Должен сработать прежде всего банальный рыночный принцип, та самая невозможность продажи, закрытые прилавки — это мощнейший рычаг. Придется искать способы возрождения интереса к искусству — процесс достаточно стихийный, хотя механизмы управления этой стихийностью неплохо отработаны, они уже включены. Не знаю, как выглядит будущее, картина окажется очень сложной, но в нее войдет составным элементом архаика, войдут Макс Эрнст, Фрэнсис Бэкон.
— Выходит, чтобы возродиться, надо будет пропустить последние лет пятьдесят или сорок, весь концептуализм, названный вами искусством асексуальным, выхолощенным, холостым?
— Отчего б и не пять тысяч лет? Мыслить надо более широкими категориями, и нам не дано знать, откуда, из какой глубины явится возрождающий импульс.
03. 12. 98ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ
Беседа с Аркадием Неделем
Осенью 1997-го Аркадий Недель, пополнив начатое в Москве образование упорным самовоспитанием на философском факультете Беэр-Шевского университета, отбыл в Париж, аспирантом к Жаку Деррида, нарицательному чудовищу современного любомудрия. Незаурядному событию предшествовали столь же далекие от банальности сюжеты внутреннего созревания школьника и студента, мирским выражением коих стало почетное приглашение 17-летнего юноши в международное Гегелевское общество (за статьи, посвященные Большой логике), а недолго спустя — в не менее респектабельное бостонское братство феноменологов. Для подсчета прочитанных моим собеседником книг следовало бы нанять специального человека, да и тот бы скончался от истощения сил. Главные языки европейских народов усвоены Неделем с оскорбительной ясностью проникновения, так что его английский или французский письменный слог ныне едва ли тушуется перед русским, а если заставят обстоятельства, в круговерть производства очерков, эссе, диссертаций будет ностальгически допущен немецкий язык, наречие первой любви, осознания себя в профессиональном призвании и, с позволения вымолвить, человеческом назначении (оставляю на обочине смелые вторжения Аркадия в санскритскую и тибетскую грамматику, необходимые для его участившихся лингвистических штудий, — это уж не моего ума дело). Молодой философ, которым ты был еще недавно, говорю я ему, обычно оказывается на распутье, где его искушают несколько соблазнительных, сулящих равную выгоду кремнистых дорог. Можно было продолжить так успешно начатую гегелиану, чреватую, не исключено, одним из коммерчески обихоженных неомарксизмов, или примкнуть к англосаксонскому (тоже не в нищенском рубище) легиону исследователей логико-речевых игр, или уж, коли покинул ты российскую географию, с удобного расстояния влагать персты в стенающие парадоксы русской души, чем занялись многие скитальцы и перемещенные отщепенцы с дипломом. Что побудило тебя, включаю я диктофон, выбрать деконструктивную линию мысли и какое место занимает она на досках твоей судьбы? Иными словами, что означает она для тебя не умозрительно, а персонально, как для обладателя определенного тела и биографии?
— Выбор совершился непредумышленно, но естественно. Начинал я с толкования классических немецких текстов и в дальнейшем пришел к феноменологии, к Гуссерлю, который не то чтобы закрывает традицию от Гегеля до Ницше, а скорее создает традицию параллельную. Истоки этого философствования проследить довольно трудно, и, во всяком случае, работы Гуссерля поверхностно связаны с трудами мыслителей, им самим называемых в качестве своих предшественников. Иными словами, человек, находясь где-то на краю традиции, формирует свою собственную, и эта последняя, без преувеличения, порождает всю континентальную, то есть немецкую и французскую, философию XX века: мы не найдем ни одного континентального автора, хоть каким-то образом не соотносящегося с гуссерлевскими работами, ибо они прежде всего важны для его личного становления. Когда же ты попадаешь внутрь феноменологии, то приходится идти дальше, тебя толкают вперед, к сочинениям, являющимся откликом на Гуссерля, его интерпретацией, и тут уж без деконструкции не обойтись, в этом пространстве она занимает центральное место. Да, был Гуссерль, затем Хайдеггер, пожалуй, самый радикальный спорщик со своим учителем, в то же время очень зависящий от него, а с Хайдеггером спорят Деррида и близкие к нему люди. Короче, если ты касаешься этих тем, они неизбежно увлекают тебя к уже расставленным ориентирам, выстраивается закономерная цепь и выбор не слишком велик. Надо лишь следить за движением и не терять из виду генеральной цели.