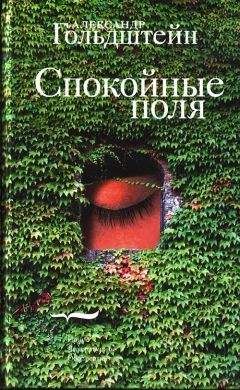— Давай теперь поговорим о Париже. Двояковыпуклый, вскормленный веками изображений и слов образ города-мифа соединяет наивысшую европейскую прелесть цветения с оскаленными пастями бедности, одиночества, тоски — за теми расставлены декорации роскоши, чтобы беспризорному страннику унизительнее было околеть у подножия мемориальных колонн, навсегда сохранивши в зрачках отблеск несбывшейся славы. Романтики, страдальчески любя эти камни, пели о запертом в клетку лебеде — узник решетки и подрезанных крыльев мечтал напиться из высохшей лужи, и трубящая в рог память поэта, осажденная троянским прощанием, наперед оплакавшим сиротскую долю Андромахи-жены, одаряла просодией солидарности затерянных в океане матросов, бездомных и пленных, стольких других. Натуралисты, содрогаясь от восхищения реконструктивным могуществом Османа-Строителя, отдавались навигациям в рыночных кишках Третьей республиканской империи, экономично, сквозь дырку в блокноте подглядывали в ее вавилонских блудили щах, где гостей, сопровождаемая сонмом младших богинь, встречала напудренная Астарта-Нана, и вели опись жутковатых персон, сходившихся на свет газа буржуазных гостиных. На стыке веков Стриндберг именно в Париже нашел сомнамбулически-чадные подмостки для своей ангелологии Ада («Inferno»), ибо город послушливо вторил прихотям его анархо-алхимии, усугубляя их отчужденную мрачность. У Рильке в романе, написанном к началу Первой из мировых, Париж — родственник смерти, гуртового, поставленного на фабричный поток умирания, он со всеми единорогами, охотниками и куртуазными распрями труверов с гобеленов средневековой легенды умещается в погребальном сундуке больницы для бедных, в трехъярусной темени ночлежного дома. Легко назвать еще десятки имен авторов нашего столетия, навек обрученных с тем городом, гневно восславивших его язвы. И юные честолюбцы, должно быть, по-прежнему римскою клятвой клянутся взять штурмом злую крепость, и некоторые побеждают и лишь в конце жизни понимают великий обман, увидав над собою все то же несокрушимое небо. Ты два года живешь в Париже. О том, что он красив, знают все. Но действительно ли он так жесток? Так ли пугающи его химеры?
— Париж — это город, который очень умело производит иллюзию о себе самом. Попадая туда впервые, ты захвачен властью его красоты, она парализует тебя, ты настолько не можешь сдержать восхищение, что перекрываешь доступ в сознание критическим чувствам. Но если побыть в этой столице более долгий срок, познакомиться с людьми, войти внутрь системы зависимостей, открывающейся перед тобой во французской семье, в банке, в кафе, в академической сфере, в сотнях иных мест, то первое, очаровывающее впечатление отступает, ибо за ним, при условии, что человек достаточно внимателен и сенситивен, открывается множество других сторон. Жестокость. Она свойственна французской, вернее парижской, культуре — дальше я и буду говорить только о культуре парижской, поскольку с провинцией, деревней знаком плохо. Так вот, парижская культура — она, я подчеркиваю, не жесткая, а жестокая, причем жестокость обладает своим эстетическим смыслом и преподносится очень элегантно. Все акценты расставлены заранее, и аутсайдер, оказывающийся в этой исключительно иерархизированной системе, поначалу просто не находит в ней места. Меня долго не покидало ощущение, что я скольжу по поверхности культурной среды, не проникая внутрь, и не потому, что двери закрыты или кто-то специально тебя выталкивает, а потому, что места давно заняты, все давным-давно определено. Ты как бы все время находишься между. Между добрым расположением и неприязнью, между хорошим отношением и откровенной враждой, между благожелательностью и намерением от тебя отвязаться. Тебе не удается сориентироваться, найти правильную позицию, сообразить, как надо себя вести. Не случайно де Сад — французский автор, он с максимальной убедительностью описал эстетическую жестокость французского дискурса. Как бы галантно к пришлому человеку ни отнеслись, ему обязательно дадут понять, что он находится вовне, что он здесь чужой.
— Ты имеешь в виду общественные связи и отношения или структуру французской культуры, ее дискурсивные механизмы, частным случаем которых является система социальных ролей?
— Да, конечно, собственно социальные позиции здесь вторичны. У меня в Париже много приятелей и интеллектуальных сообщников, но я убежден, например, что дружба в том виде, в каком мы ее понимаем, там отсутствует…
— Поэтому твой бывший шеф так много пишет о политике дружбы…
— Ага, о политике того, чего нет. О политике ничто. Ты можешь замечательно провести с кем-нибудь несколько часов в кафе, выпить вина, обсудить все на свете и затем месяцами с ним не созваниваться, это считается нормальным. Там нет необходимости в постоянном человеческом общении, в «базаре». Я не говорю, что это плохо, я далек от каких-либо моральных или этических оценок, всего лишь констатирую факт, данность. Французы так живут, для них это естественно, между ними выстраиваются точно такие же отношения, в том числе в семье. Во Франции ведь сейчас национальная катастрофа, институт семьи разрушен, неимоверное количество разводов, масса самоубийств. Проблема в том, что нет глубокой внутренней потребности людей друг в друге, ее нет ни у мужчины с женщиной, ни тем более у приятелей, эта потребность ликвидирована. В Париже стены чуть ли не каждого дома оклеены объявлениями, приглашающими на прием к психоаналитику, представителей этой профессии там, наверное, процентов семьдесят населения, к ним приходят даже не за врачебной помощью, а с тем, чтобы тебя выслушали, поговорили с тобой — ну и взяли за это деньги. Такая форма психологической проституции. Уверен, впрочем, что психоаналитик находится в той же ситуации и ходит к другому психоаналитику. Не берусь судить о причинах, но подорваны многие базовые институты, на которых зиждется то что мы называем обществом, и особенно уже названный мной институт семьи. Дружба, я вынужден повториться, тоже исчезла, она превратилась в набор жестов хорошего тона, хотя, если ты обратишься за помощью, тебе могут помочь, и не исключено даже, что искренне. Но сама эта искренность будет носить характер эстетического жеста, она не продиктована желанием тебя поддержать, желанием, вызванным симпатией.
— Французская семья, какой она изображена во французской художественной литературе последних двух столетий, вообще производит довольно тяжелое, даже гнетущее впечатление — «клубок змей». Я, однако, вот что хотел спросить: не кажется ли тебе, что лощеная герметичность и чувственная бесчеловечность, заставляющие вспомнить об иезуитской духовной муштре, присущи и французскому литературному тексту, порождению жизни и культуры французов?
— Без сомнения, он ничуть не обманывает. Я, кстати, думаю, что во Франции литературный текст стоит очень близко к жизни, между ним и реальностью минимум зазоров. Все мы больше или меньше воспитывались в чтении классических французских повествований, и только сейчас, пожив в Париже и обзаведясь, как сказал бы философ, внутренним опытом, я вижу, насколько неверным было первое чтение. Мы обращали внимание на красоту, опять же на элегантность, порой на искренность и теплоту, но это иная красота, иная искренность, чем та, к которой мы привыкли. Множество французских литературных произведений описывают отношения между мужем и женой, а отношения их — я вновь возвращаюсь к действительности — по крайней мере чужому глазу предстают перверсивными. Они ознаменованы борьбой за территорию, за право властвовать, целью ее становится порабощение противника, тут решается, кто будет рабом и кто господином, прямо-таки гегелевская схема, из «Феноменологии духа». Французы с положением вещей смирились, и хотя они от него страдают, никто не предпринимает попыток что-либо изменить, поскольку тогда пришлось бы менять решительно все, весь строй бытия, а на это ни у кого нет сил.
— Тем не менее ты живешь в умственном центре мира и, похоже, собираешься жить в нем и дальше, несмотря на перечисленные тобой прискорбные черты. Этот город, вероятно, затягивает?
— О, да. К тому же, коль скоро не в моей власти что-нибудь поменять — я чужак, аутсайдер, иностранец в Париже, правильной стратегией будет воспринять ситуацию под знаком того интеллектуального опыта, каким он тебя наделяет и который может очень дорого тебе обойтись. Индифферентное созерцание ведь невозможно, да и неинтересно. И почему бы не увидеть в парижских сложностях, в процветающих там чрезмерно запутанных формах увлекательный биографический эксперимент? Ты сам, кооперируясь с обстоятельствами, ставишь его над собой, и, кто знает, не окажется ли он полезным, даже необходимым. Вдобавок время отчужденного философствования прошло. Постмодернизм заслуживает суровой критики, но после него уже нельзя отстаивать фундаментальное различение текста и тела, нахождение на нейтральной полосе между своей мыслью и своим человеческим бытием. Эта нерасторжимость способна побудить к новой философской активности, к достижению новых результатов, и пусть никому не ведомо, какими они окажутся, ради будущего эксперимент стоит продолжить.