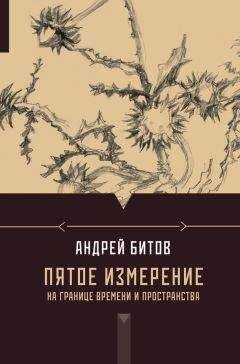Наконец я осилил все стихотворение…
На головах царей божественная пена.
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?
Однако рифма то подгоняет, то подгоняется. Рубежи не мог запомнить до самого конца. Они были нужны лишь для мужей, как и пена для Елены. Дальше стало легко:
И море, и Гомер – все движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.
Самым последним никак не запоминалось это витийствуя. Но и его одолел, будто вспомнил, будто сам все написал, будто вписал его последним: ладно, и так сойдет.
И каким коротким и простым оказалось все стихотворение!
Сложнее было с «прозрачным» Пушкиным.
В пять утра все запомнил, к восьми все забыл. (А Мандельштам – назубок.)
Во-первых, я совсем не помнил, что оно называется «Воспоминание» (что называется, в тему).
Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда…
Эти строчки вспомнились с последовательной легкостью, будто сами написались, сверху вниз. Хотя где-то впереди висела сквозь жизнь запоминавшаяся, как хлыст, строка:
Но строк печальных не смываю.
С нее-то и началось для меня запоминание (восстановление) стихотворения, с конца вверх.
Труднее всего оказалось запомнить слова, связанные с описанием света и времени (возможно, борьба поэта с тавтологией и синонимами является более технической стороной поэтической работы): в то время для меня… в бездействии ночном… безмолвно предо мной…
Вспоминание строк оказалось перепутанным в такой непоследовательности:
Змеи сердечной угрызенья
Часы томительного бденья
Горят во мне… В то время для меня
Влачатся в тишине…
Итак:
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья…
Третью строчку здесь у меня назойливо выбивает строчка из прежней памяти, из совсем другого стихотворения:
И пробуждается поэзия во мне
Усилием вытесняю ее, чтобы далее, дыряво, запомнить:
…сильней горят во мне
Змеи сердечной угрызенья.
(При чем тут змея? Однако сразу заползла в память.)
Мечты кипят. В уме…
Теснится… дум… тяжких… избыток
Воспоминание свой…
Зато окончание стало сразу и окончательно:
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
В бездействии ночном — вот что никак было не запомнить.
И вовсе не сильней, а живей!
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской
………………………………………………………
Воспоминание безмолвно предо мной.
(Курсивом выделено, что упорно не запоминалось.)
Значит, подумал я, забытое мною принадлежало уже технике, отделке, рифме. Там, где я, внаглую, подменял пушкинские слова своими, там и он сам уже лишь подбирал что получше.
Этот, пардон, хронометраж был зафиксирован в День сталинской конституции. В следующую ночь, пытаясь уснуть, Мандельштама легко вспомнил всего, а с Александром Сергеевичем опять начались выпадения: какой там у него был «ум»? неужто «праздный»? какие «думы»? может быть, они были «праздными»? или «тяжкими»? Да, позволил себе рассуждать я, эпитеты для Пушкина были менее важны, чем для Мандельштама: определялись в музыку, в размер. Мандельштам же их изыскивал поярче, даже меняя стих в угоду… оттого они у него блестят, как шляпки гвоздей.
Тут бы мне следовало укоротить свою крутость, чтобы перейти к выводу: о чем бишь все это? Я побоялся проводить свой чистый опыт дальше, но затаил мысль, что если у шедевра не сохранился черновик, а лишь беловик, то последовательность его запоминания при заучивании наизусть воспроизводит нам первый, черновой проект автора (такая вот виртуальная археология, достойная секретных лабораторий ФСБ).
10–13. II. 2007
P. S. Заключение экспертизы.
Засекреченный Мандельштам сознался во всем и стал нам понятен, хотя и не близок. Родной и открытый для всеобщего доступа Пушкин ушел в глухую несознанку, хотя и не отказывается от данных им ранее показаний. Считаю открытие новой секретной лаборатории несвоевременным.
Завсектором рацпредложенийПодполковник
А. БоберовP. P. S. Заключение пушкиниста, члена-корреспондента РАН Л. Н. Одоевцева.
По поводу Мандельштама ничего не скажу: вряд ли сохранились какие-либо черновики его «Бессонницы»; по поводу же пушкинского «Воспоминания» «метод Битова» вызывает бездну вопросов и сомнений. Не так уж сложно было бы автору заглянуть хотя бы в академическое собрание: пушкинский черновик сохранился достаточно полно.
Определить, какая Пушкину была дарована строка, нет возможности. Черновая рукопись начинается:
Есть
Давно день – и тихо ночь
На стогны града
Далее же все проявляется и прописывается с подыскиванием рифм и эпитетов, в последовательности известного нам текста:
налегла-мгла-легла = день-тень // отрада-награда // нисходит-слетает-наляжет // В безмолвии – В бездействии //встревоженном-подавленном // горьких-грустных-тяжких // мрачный-длинный-мрачный-долгий-длинный // Читаю жизнь мою – И с отвращением читая жизнь мою // И содрогаюсь и – И томно жалуюсь – И горько жалуюсь // заветных-печальных…
Все это может свидетельствовать о предпочтениях, но никак не о безразличии к эпитетам.
Так что первым словом стихотворения является слово «Есть», которое далее в стихотворении не встречается; ночь утопает в прошлом: Есть, которого нет. Лучше бы Битов ответил на вопрос: почему Пушкин отверг вторую половину стихотворения, над которой столь же упорно работал?
Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, бедности, в гоненьи и в степях
Мои утраченные годы.
Я слышу вновь друзей предательский привет
На играх Вакха и Киприды,
Вновь сердцу (памяти?) наносит хладный свет
Неотразимые обиды.
Я слышу (гнусный шип), жужжанье клеветы
Решенья глупости лукавой
И шепот зависти и легкой суеты
Укор веселый и кровавый —
И нет отрады мне – и тихо предо мной
Встают два призрака младые,
Две тени милые – два данные судьбой
Мне ангела во дни былые —
Но оба с крыльями, и с пламенным мечом
И стерегут – и мстят мне оба —
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах счастия и гроба.
29 апреля
Это только кажется, что все плохо и ничего не получается. Представления заслоняют.
На самом деле и удача сопутствует, и справедливость торжествует.
Я родился в том самом тридцать седьмом, но зато в день основания Ленинграда (б. С.-Петербурга), решимость моих родителей подкреплена сталинским законом о запрещении абортов.
Я родился в самом переименованном городе самой переименованной страны, но вырос в самой непереименованной их части: на Петроградской стороне, на Аптекарском острове, на Аптекарском же проспекте, напротив Ботанического сада, в доме «модерн», успевшем построиться до революции.
Оттуда начинается моя память: блокадная зима 1941–1942 года.
В 1967-м я переехал на Невский проспект, поближе к Московскому вокзалу. В 1972-м мигрировал в Москву, в Теплый Стан. В 1979 году оказался без дома. Без работы, без семьи, без денег – без всего, кроме автомобиля. Ночевал по друзьям, по мастерским: найти меня было невозможно. Никто и не искал.
Так проходит год. Теплый Стан переименовали в Профсоюзную улицу, заезжаю я по какой-то более чем редкой надобности к бывшему теперь тестю в Кузьминки. Звонок. Вот те на… Кузнецов, Феликс Феодосьевич.
– Ты развелся?
– Да.
– Тебе негде жить?
– Да.
– Мы дадим тебе квартиру.
– Дареному коню…
И получаю я ордерок на Краснопрудную улицу. Кстати, оказалось, непереименованную, «краснота» в ней от XVII века.
И вот что любопытно: моя последняя квартира в Ленинграде была у Московского вокзала, на третьем этаже, под номером 28, а эта – у Ленинградского вокзала, тоже на третьем и тоже 28.
Конечно же, я согласился, думал: да будь я космонавтом и закажи себе подобное совпадение, никакой Гришин меня бы не послушал. Долго потом друзьям судьбою хвастал. Теперь привык.
Биография, как и история, – это то, что получилось, а не наоборот.