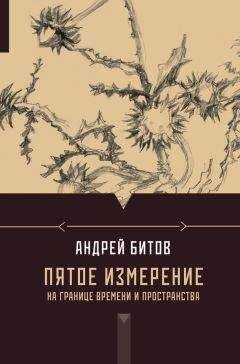Биография, как и история, – это то, что получилось, а не наоборот.
То, что у нас с кладбищами напряженка, я запомнил с 1954 года: бабушку не удалось положить к дедушке. Дедушка был историк и, провозгласив, что через год пол-России будет висеть на фонарях, скончался от сердечного приступа за год до «катастрофы», оставив бабушку с четырьмя детьми в возрасте от пятнадцати до семи лет, и был захоронен рядом с отцом и сестрою на Новодевичьем (в Петербурге) кладбище. Дедушкино кладбище было «закрыто», поговаривали, что начальство ждет, когда оно (кладбище и начальство) окончательно вымрет, чтобы приспособить под собственные нужды. Наконец бабушка упокоилась на Шуваловском, тоже закрытом, но просто, не на ведомственный замок. Вид отсюда открывался замечательный: с облесенного соснового склона на Шуваловское озеро – блоковская строка. «Все чаще я по городу брожу. Все чаще вижу смерть – и улыбаюсь улыбкой рассудительной. Ну, что же?..»
В 1958 году не стало Азария Ивановича… Это был наш некровный родственник, с 1919 года самый близкий семье человек. И опять цитата: «Между ними сложные отношения… такая духовная борьба, о которой вы понятия не имеете… И вы, получая… по двугривенному за пакость… куражитесь над ними, над людьми, которых вы мизинца не стоите, которые вас к себе в переднюю не пустят».
У него никого, кроме нас, не было. И мы, воспользовавшись уже установившимися связями с администрацией кладбища, выдав его за двоюродного брата бабушки, захоронили Азария Ивановича в непосредственной близости, чуть выше по склону, так что с одной могилы хорошо видно другую, через дорожку. Ограниченное дорожкой и склоном, ему досталось неожиданно большое место. Вдвое длиннее поперек, чем вдоль, так что рядом образовалось пустующее место, но земля эта была уже наша. Так что когда в 1977-м не стало папы, мы, пользуясь уже как бы и законным правом, выдали папу за двоюродного брата Азария Ивановича. Дело в том, что фамилии у всех троих были разные. Непереименованные.
В 1990-м, когда не стало мамы, мы жили уже в Переделкине; она хотела только в Шувалове.
И вот как единственно можно было это сделать: либо к законному мужу, либо в ту же могилу к матери; теперь она лежит между двумя «братьями», и ее крест возвышается над ними.
В линейку, по-над озером: дядя Аза, мама, папа.
Напротив мамы, ниже по склону, как вершина треугольника, бабушка.
Ровный такой треугольник, почти равнобедренный.
В головах у бабушки выросла огромная полувековая береза.
Моя семья живет теперь в Петербурге (б. Ленинград), внучка моя несколько старше своего дяди, живут они через улицу и друг к другу в гости ходят, как брат и сестра, и фамилии у них разные, и когда я выхожу с поезда в левую арку Московского вокзала, то первый дом в городе, открывающийся в арке моему взору, – мой. Квартира опять же на третьем этаже. Правда, номер все-таки не 28.
Тот жил и умер, та жила
И умерла, и эти жили
И умерли; к одной могиле
Другая плотно прилегла.
4 апреля, Переделкино
Первое стало вторым, третье – первым
(Памяти Вл.Соколова и Бродского)
Поэт – издалека заводит речь.
Поэта – далеко заводит речь.
М. Цветаева. «Поэт»
29 января 1997, Нью-Йорк – Принстон,
в электричке
Год как нету Иосифа.
А волны опять с перехлестом.
Осень вечна, и можно сменить лишь округу.
На какой ты там, было, намылился остров?
И какому писал позабытому другу?
Свою оптику сжав до оси и осы,
Грудь раздвинув затяжкой последнего вздоха,
Состояньем рассвета, состояньем росы
Стать. Всего лишь. И это – эпоха.
Величие замысла может выручить…
Бродский, из последней встречи
Вооруженный зреньем тыщи ос,
Не выбрав до конца ни сердца, ни погоста,
«Не быть иль быть?» – вопросом на вопрос
Ответив Гамлету, он просто…
Он вышел в сад. Калитка или выстрел?
Дымок вился из будто пистолета…
Сказал, быть может: «Господи, как быстро!
Последней может быть лишь сигарета».
Вооруженный зреньем тыщи ос,
В сад/зал взглянул, перевернув бинокль,
«Не быть иль быть?» – о замысле вопрос,
Вопрос, возможно, непротертых стекол.
За ним осталась приоткрытой дверь —
Щель уже кошки, но пошире мышки…
Быть иль не быть, товарищ? Верь не верь,
Свобода есть приговоренность к вышке.
Не быть иль быть? – лишь замысла вопрос.
Что он/ты нам о благородстве трекал?
Тень от отца, дымок от папирос —
Что вопрошать? Ты лучше в зал покнокай…
Сад полон ожиданьем прошлых встреч,
И “no more” – одно лишь постоянство.
Велик ли замысел? Проходит наша речь,
Да что там речь! проходит даже пьянство,
Проходит одиночество и боль,
Проходят девять дней, сороковины,
Призванье, назначение и роль
Проходят, как проходят годовщины.
Неужто вопрошанье только ритм?
Иное бытие покажется не новым,
Коль через год ты будешь говорить
С новопреставленным Володей Соколовым
И вы сойдетесь на двух-трех строках…
Ты будешь удивлен, что это из Рубцова.
Как будто выдается напрокат
Поэзия… Сыновья иль Отцова.
Там Мандельштам Есенину сродни:
Талас на голову иль вервие на шею…
И несочтенные, ворованные дни
У Пушкина…
Мальчик успел родиться в XVIII веке. Рос толстым и неуклюжим, родители мало им занимались, все больше с няней. Отличал его от прочих детей особо яркий румянец. Летом они жили под Москвой в деревне. У них в доме жила помешанная девушка, дальняя родственница. Думали, что ее можно вылечить испугом. Однажды мальчик пошел гулять в рощу, воображал там себя рыцарем, рубил мечом лопухи. Навоевавшись, возвращается домой – видит на дороге растрепанную взволнованную девушку: «Братец! они меня принимают за пожар!» Для испуга ее поливали из пожарной кишки. Тотчас все поняв, мальчик ее успокоил так: не за пожар ее приняли, а за цветок, что цветы так же из кишки поливают…
Пушкин? За что он нам?
Ни Баркова, ни Крылова, ни Арины Родионовны, ни дедушки-негра недостаточно для его возникновения. Для того чтобы на что-нибудь опереться, пришлось ему выдумать и историю, и фольклор, и литературную традицию.
В одном человеке Россия прошла сразу пропущенные три века, чтобы потом вернуться на два века вспять. В одном человеке враз была обретена мировая культура и цивилизация! Вот щедрость Божья! которой мы до сих пор недостойны.
Он был азартен, считал себя игроком, а его разве что ребенок не обыгрывал.
Весь в долгах, он нищему подавал золотой.
Он написал «Медный всадник», при жизни не напечатанный.
Он умер от раны, защищая честь жены.
Даже друзья не понимали его.
«Все, – говорил в негодовании Пушкин, – заботливо исполняют требования общежития в отношении к посторонним, то есть к людям, которых мы не любим, а чаще не уважаем, и это единственно потому, что для нас они – ничто. С друзьями же не церемонятся, оставляют без внимания обязанности свои к ним, как к порядочным людям, хотя они для нас – всё. Нет, я так не хочу действовать. Я хочу доказывать моим друзьям, что не только их люблю и верую в них, но признаю за долг и им, и себе, и посторонним показывать, что они для меня первые из порядочных людей, перед которыми я не хочу и боюсь манкировать чем бы то ни было, освященным обыкновениями и правилами общежития».
Однажды Пушкин жаловался приятелю, что ночью он проснулся оттого, что ему приснилось гениальное стихотворение, а утром он не мог его вспомнить. «И ты не встал его записать?!» – изумился приятель. «Жаль было Наташу будить…» – отвечал Пушкин.
Каков Пушкин!!!
6 июня 1997 года,
198 лет Александру Сергеевичу.
Люблю одинокое дерево,
Что в поле на страже межи.
Тень в полдень отброшена к северу —
Зовет: путник, ляг и лежи.
Забыв за плечами дорогу,
Забросишь свой посох в кусты,
И медлят шаги понемногу,
Пока приближаешься ты.
Как к дому, как к другу, как к брату,
Уходит земля из-под ног…
И ты не захочешь обратно:
Ты с деревом не одинок.
Сквозь ветви, колени и листья
Плывут облака, как года.
Одной одинокою мыслью
Взойдет над тобою звезда.
И космос как малая малость
Сожмется до краткого сна…
И сердце со страхом рассталось,
И бездна всего лишь без дна.
1997…2005
Письменный стол
(Открытие программы)
Screen пуст и чист, как свет в окошке.
На подоконник села кошка.
Умыла лапкою лицо.
А ты свободен, точно птица,
Небес пустей твоя страница,
И неподвижно колесо
Ума. Hard disk жужжит впустую.
Вращаясь на казенном стуле,
Сидишь и думаешь о вечном:
С чего начать… Хотя, конечно,
Пора бы знать, что продолженье
Есть лишь непрерванность движенья
Туда. К концу того начала,
Где все, что делалось, звучало.
Минуй, уныние ума!
Строка, строку перекрывая,
Расскажет все, как есть, сама,
Поскрипывая рифмой Рая.