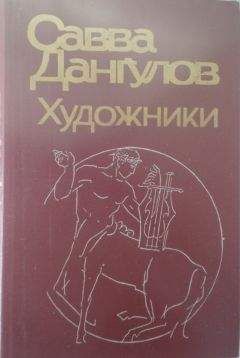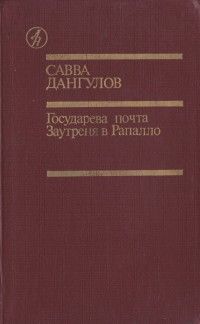Мы возвращались в «Асторию», сопутствуемые нашими ленинградскими друзьями, — рядом с нами был Виссарион Саянов. Получилось так, что вопрос Верта о Тихонове и реплику англичанина: «Жаль, что нет Тихонова, я очень рассчитывал повидать его здесь» — Саянов засек и оценил. Последнее, как я потом установил, было характерно для Саянова — больше, чем кто-либо иной из ленинградских литераторов, он был связан дружбой с Николаем Семеновичем. Тихонов воздал этой дружбе в своей «Двойной радуге», там есть глава о Саянове. Зачином к главе Николай Семенович избрал прокофьевские строки: «Был с нами друг наш замечательный, высокой доли человек...» Глава озаглавлена «Палатка под Выборгом», как, впрочем, и стихотворение, которое Тихонов посвятил Саянову. Глава воссоздает картину зимней войны в Финляндии, когда судьба соединила поэтов, поселив их в палатке под Выборгом. Для Тихонова то была третья война, для Саянова — первая. Тихонова восхищает Саянов смелой прямотой, храбростью. «Мы дружили с ним давно и по-настоящему. Нигде так, как на войне, не узнается человек во всей широте настоящих чувств. Так я увидел моего друга в ту незабываемую, беспощадную зиму войны с белофиннами. Мы проделали с ним весь зимний поход, с первого до последнего дня. В марте 1940 года, после прорыва линии Маннергейма, в дни боев за Выборг, мы жили с ним в одной палатке, на снегу, среди сугробов, и непрерывный грохот орудий сопровождал нас с утра до вечера», — напишет со временем Тихонов, воздав должное другу и дружбе. Но это произойдет много лет спустя, а сейчас была ленинградская ночь сорок третьего года и мы, сопутствуемые Саяновым, возвращались в «Асторию».
— Конечно, я лицо не совсем беспристрастное, — говорил Саянов, намекая на свою дружбу с фронтовым побратимом, — но я все-таки скажу все, что хочу сказать... — Судя по тому, с какой настойчивостью он повернул сейчас разговор к Тихонову, у него была потребность продолжать разговор, начатый в особняке на Литейном. — Допускаю, что сейчас говорить об этом рано, но попомните мое скромное пророчество: именно Тихонов был летописцем блокады — никто точнее и ярче не вел эту летопись, при этом и в поэзии... Собранное воедино, все написанное Тихоновым даст и цельную и верную картину того, что пережил Ленинград… Мы вошла в подъезд гостиницы. То ли быстрый шаг ужесточил дыхание нашего спутника, то ли волнение, которое объяло его, мы слышим, казалось, как колотится его сердце.
— Конечно, каждый из нас что-то сделал в эти годы, но Тихонов сделал больше остальных, — закончил Саянов, тяжело дыша, его пушистые усы вздувались.
Рассказ Саянова был своеобразно продолжен в моем сознании почти через четыре года, когда я прочел тихоновский этюд «Из осажденного Ленинграда». Этюд малоизвестен, он был напечатан в специальном выпуске нашей газеты, к ее двадцатипятилетию, — у этого выпуска было весело-праздничное имя «Красная звездочка». Впервые со времени войны в газете возник весь ряд краснозвездовцев, от Эренбурга и Симонова до Суркова и Павленко. Как некогда, ленинградцы выступили в своих откликах на юбилей едва ли не плечом к. плечу — Саянов в стихах, Тихонов в прозе. В тихоновском этюде есть настроение той поры, да к тому же это едва ли не единственное свидетельство, в котором поэт говорит о своих отношениях с «Красной звездой», хотя и кратко, но прямо и полно.
Итак, «Из осажденного Ленинграда».
«В «Красной звезде» я начал печататься очень давно, но никогда не ощущал такой тесной связи с ней, такого ее значения в моей жизни, как в годы Великой Отечественной войны. Я видел своими глазами, как читают ее с первой и до последней страницы на переднем крае бойцы и командиры, какой популярностью она пользуется в массах и как велика сила ее ведущего, вдохновляющего слова. В тот период «Красная звезда» объединяла огромный боевой коллектив писателей, поэтов, очеркистов, журналистов. Большой гордостью для меня было печататься в такое время в такой газете, за которой следил миллионный, необыкновенный читатель, который с оружием в руках громил фашистских захватчиков.
Особое значение страницы «Красной звезды» приобрели для меня после того, как, по предложению редакции, я начал печатать в ней свои ежемесячные обзоры положения в осажденном Ленинграде. Я начал их с мая 1942 года, и потом они под названием «Ленинград в июне», «Ленинград в июле» и т. д. печатались вплоть до освобождения Ленинграда, до дней разгрома немцев под Ленинградом. Последний очерк назывался «Победа».
Обычно полполосы отводила газета под этот обзор. Писать его было сложно и необыкновенно ответственно. Многое нельзя было сообщать о жизни фронта и города, чтобы не раскрывать военной тайны, многое редакция сокращала или из-за «излишней лирики», или по недостатку места, но на каждый такой очерк я имел письма с фронтов, от рассеянных по фронтам ленинградцев...
Редакция «Красной звезды» много помогала мне. Когда я писал поэму «Слово о 28-ми гвардейцах». В трудные минуты фронтовой, осадной жизни я всегда чувствовал товарищескую поддержку, заботу и дружеское участие моих боевых товарищей по «Красной звезде».
Мне представляется уместным вернуться к весне сорок второго, когда Тихонов работал над поэмой о двадцати восьми. В поэме есть строки, для всего существа Тихонова характерные, — они воссоздают момент для гвардейской дружины трагедийный. Только что была отбита первая волна танков, как возникла вторая, еще более мощная.
...И Бондаренко, что когда-то
Клочкова Диевым назвал.
Сказал ему сейчас, как брату,
Смотря в усталые глаза:
«Дай обниму тебя я, Диев!
Одной рукой могу обнять,
Другую пулей враг отметил». —
И политрук ему ответил,
Сказал он:
«Велика Россия,
А некуда нам отступать,
Там, позади, Москва...»
В окопе
Все обнялись, как с братом брат...
Мне подумалось, что эту поэму должен был написать именно Тихонов — она будто вызрела из самого существа жизни поэта, его взглядов на человека и жизнь. Ему должно было необыкновенно импонировать, что победа у разъезда Дубосеково добыта дружиной, в которой находились дети всех наших народов: «В окопе все обнялись, как с братом брат...»
Осенью семьдесят шестого года у меня была необыкновенно увлекательная поездка к сердцу горного Таджикистана, на Памир, на Вахш, где шли полным ходом работы по строительству Нурекской гидростанции. Повод к поездке был более чем добр: рабочие Нурека присудили мне свою рабочую премию. В Москве уже лежал снег, а здесь была райская теплынь. Нас пригласил к себе Мирзо Турсун-заде.
Мне было интересно наблюдать поэта. Все было в нем умеренно особой, так мне казалось, таджикской мягкостью — и жесты, и походка, и манера говорить.
Стол был накрыт в доме, из просторных окон которого открывался чудесный вид на памирское предгорье и гряду гор, в такой мере четких, что казалось — до них рукой подать. Точно пользуясь этим, наш хозяин, сидящий во главе стола, невысоко поднимал руку и, указывая на горы, несмотря на декабрь но утратившие зеленого отлива, произносил:
— За этой круглой горой — мои родные места...
Желая сделать гостю приятное, он спросил меня: «Что бы вы хотели увезти из Таджикистана?» Я был наслышан о необыкновенных достоинствах местной чинары и ответил: «Чинару, разумеется... Но вот вопрос, — обратился я к хозяину, — возьмется ли чинара в моем подмосковном саду?..» — «Лучше, чем любое другое наше дерево», — заметил Мирзо, и мигом были добыты саженцы чинары. «А знаете, вы хорошо придумали с чинарой, — сказал мне поэт, прощаясь. — Она живет дольше всех наших деревьев, а значит, у нее есть будущее».
Ну что ж, это, наверно, было главным, что следовало сказать гостю, важнее этого ничего не скажешь, если хочешь, чтобы он остался твоим другом. Я не знаю, что после первой встречи сказал Мирзо Тихонову, но это наверняка были очень значительные слова, — как мне сказали, у Мирзо была многолетняя дружба с Николаем Семеновичем, у Мирзо и его литературы. Но последнее я уже сам могу свидетельствовать.
Случилось так, что, вернувшись из Таджикистана, я попал в большой конференц-зал писательского особняка на улице Воровского, на встречу с таджикскими литераторами. Мне была понятна радость таджиков, когда появился Тихонов. Русский поэт не без радостного волнения отвечал на рукопожатия таджиков, — в том, с каким почтительным вниманием те склоняли головы перед старым поэтом, был знак душевной приязни, знак родства. Все стало понятно, когда хозяева и гости заняли места за большим столом и слово было предоставлено Тихонову, слово о таджикской литературе. Для меня речь Николая Семеновича была отмечена впечатлением новизны — я никогда не слышал, как он говорит на аудитории. Не хочу искать иного слова, но могу сказать, что был захвачен стихией тихоновской речи. Ее речевой образностью, ее живостью, ее неброской целеустремленностью, ее стройностью, ее познавательным богатством. Можно было только удивляться, как Тихонов проник в суть этой литературы, почувствовал ее существо. Речь была исполнена стремления проложить своеобразный мост между таджикской литературой и остальными литературами Союза Советов. Если в природе существовал человек, которому было бы по силам соорудить этот мост, то в данную минуту таким человеком мог быть только Тихонов.