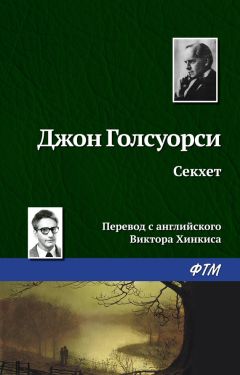Бутта. Но они не принимали тебя? В этом все дело?
Ханци. У меня нет имущества, у меня нет имени. Я слышал, как они говорили: «Если мы впустим его в дом, то лишимся всего. У нас не будет ни власти, ни богатства, одна только любовь. А что в ней проку?»
Когда Ханци произнес эти слова, наступило долгое молчание. Судьи сидели, закрыв руками лица. Наконец Бутта заговорил.
Бутта. Ну, что нам с ним делать? Слышал я об этой самой любви, но ни разу еще не встречал странствующего торговца, который возил бы с собой этот товар. Господа, у вас есть к нему вопросы? Служитель, подай мне мой парик; солнце так палит – нет мочи терпеть.
Сомбор. Выходит, ты разрушитель?
Ханци. Ветер сметает и развеивает все на свете, но ветер же все соединяет.
Сомбор. Говори проще. Ты против тех, кто судит, или нет?
Ханци. Благородный господин, тому, кто дал мне приют, суд не нужен, так велика его любовь.
Сомбор. Без суда! Без власти! Все ясно!
Диарнак. Ханци! Повинуешься ты приказам или нет?
Ханци. Господин, я повинуюсь всем приказам, но там, где я пребываю, приказов не отдают… Все служит любви.
Диарнак. Без приказов! Ну, довольно!
Мемброн. Ханци! Помнится, однажды мы решили испытать тебя, и ты не выдержал испытания. Любовь, без сомнения, идеал, но куда действеннее изнурять тела и души людей; долгий опыт научил нас проповедовать первое, а делать второе. Можешь ли ты объяснить нам, во имя чего столько веков спустя мы должны во второй раз тебя испытывать?
Ханци. Брат, мне запрещено просить или оставаться там, где хотят от меня избавиться. Я могу лишь появляться то тут, то там, подобно дождю, или пению птиц, или солнечному свету, падающему на землю сквозь листву. Если вы не готовы принять меня всем сердцем, тогда гоните меня прочь!
Мемброн. Ты хочешь невозможного. Так не бывает – чтобы всем сердцем!
Марроскуин. Ханци! Всякий раз, как я читаю о тебе в книгах, вижу твои изображения, слышу твой голос в музыке, это трогает и даже восхищает меня, и теперь, когда я вижу тебя во плоти, я хочу, чтобы ты остался с нами, если это возможно. Но я должен задать тебе один вопрос. Разрушишь ли ты то утонченное благополучие жизни, ту культуру, которая, признаюсь, есть sine qua non[3] моего существования? Искренне надеюсь, что ты ответишь «нет».
Ханци. Друг, что такое благополучие? Значит ли это все делить с ближними, не причинять зла ни одному живому существу? Значит ли это страдать вместе с одним и радоваться с другим? Если это и есть благополучие, и утонченность, и культура, я охотно останусь с тобой.
Марроскуин. Ах! Уйди, прошу тебя!
Бутта. Господин Ханци! Скажу откровенно, – я человек ничем не примечательный; таких, как я, сотни и тысячи, нам пришлось самим прокладывать себе дорогу в жизни. И я спрашиваю себя: как бы мог я это сделать, если б взял тебя в товарищи? Как бы я выбился в люди, если б заботился обо всех, как о самом себе? Нет, брат, это не практично, это не по-английски, и потому – не по-христиански. Как бы ни была сильна добрая воля в мире, чем скорее Секхет сожрет тебя, тем лучше для нас всех. И я голосую за Секхет!
Сомбор (не отнимая рук от лица). Ханци! Из всех преступлений против общества твое преступление самое ужасное. Ибо там, где ты, наше общество не может существовать. Там, где ты, не нужен ни я, ни Диарнак, ни Мемброн, ни Марроскуин, ни Бутта. А это просто немыслимо. И поскольку это немыслимо для нас, судьба, твоя решена. Секхет! Секхет!
Диарнак. Ты больше не будешь сеять смуту в рядах моих солдат. Секхет!
Мемброн. Ханци! Я сочувственно выслушал все, что ты сказал о себе, но, мне кажется, усматриваю во всем этом тайное посягательство на меня самого. Я от всей души хотел бы терпимо отнестись к твоему учению и даже приветствовать его, но я не вижу, как можно примирить все это с моими собственными интересами. Поэтому я вынужден скрепя сердце – служитель, ставни! – сказать: Секхет.
Марроскуин. Увы! Увы! Секхет!
И тут все судьи, закрыв лица, замогильными голосами еще раз крикнули: «Секхет!» А Ханци, глядя на них своими глубокими глазами, поднял руку в знак того, что он слышал это, и отошел к тем, кто стоял под лимонным деревом.
Наступила моя очередь! Но когда я шагнул вперед, Сомбор встал.
– Уведите этих пятерых под пальмы и спустите Секхет с цепи, – сказал он. – Довольно на сегодня, мои справедливые и высокоученые собратья. Посмотрим, как будут приводить в исполнение наш приговор.
И, сопровождаемый остальными судьями, он скрылся меж пальм. Вархета, Наина, Талете, Арву и Ханци увели из лимонной рощи. И вдруг над землей начала сгущаться какая-то странная мгла, и небо стало темно-оранжевым. И море черных голов позади нас, на Фиванской равнине, вдруг усеялось белыми пятнами лиц, словно пенными бурунами, вздымаемыми налетевшим штормом. Вдруг в дальнем конце лимонной рощи я увидел своего переводчика, Махмуда Ибрагима. Подобрав полы желтой одежды, он бежал во всю прыть. На его широком, жизнерадостном лице было выражение и ужаса и удовольствия. Указывая через плечо большим пальцем, он крикнул, едва переводя дух:
– Секхет! Она ошиблась! Она пожирает не тех! Пожирает судей! Умница Секхет, – она уже сожрала четырех, а теперь гонится за Буттой! Боже мой! Он бежит, да, да, бежит! Вот это здорово! Вот это жизнь!
И он покатился со смеху. Мы услышали вдали протяжный вопль: «О-о-о!» А потом наступила тишина, она разлилась над всей Фиванской равниной, до самых гор. И небо снова стало голубым… Я проснулся…
Секхет! Ты, что пожираешь грешные души в преисподней!
Днем и ночью, в вечной тьме, ты бодрствуешь!
Упорный в разнузданных играх (лат.).
Цитата из «Гамлета», действие III, сцена 1.
Непременное условие (лат.).