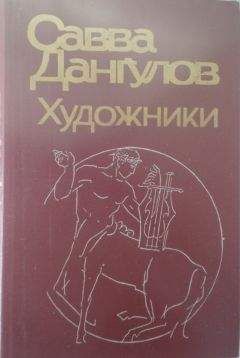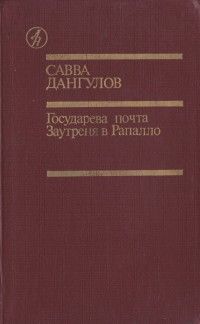У зрелого Кугультинова есть поэма «Явление слова». Поэме предпослана дудинская строка: «Душа моя, а все ли ты свершила?» Это поэма о том искомом, больше того — вожделенном слове, которое льстит себя надеждой найти истинный художник и которое, увы, часто так и остается вожделенным. Но нужно немалое мужество, чтобы написать такое, и в этом нравственная сила поэта, большого поэта, ибо он есть как человек и художник до тех пор, пока сознает несовершенство своей работы, как бы она объективно ни была хороша. Многомудрый Басангов обратился к притче о лисе, бегущей бескрайней степью с капелькой каспийской воды во рту, чтобы сказать: стремление обрести читателей в мире, который зовется советским, не требует отказа от языка твоих отцов и дедов. Напротив, есть смысл писать именно на этом языке, ибо тут ты особенно силен. Наверно, это интересно, как поэт, представляющий стотысячный народ, вышел за пределы этого народа и стал всемирно известным. Проследить этот процесс — задача во всех отношениях благодарная. Никто не просил Кугультинова отказываться от родного языка, больше того — как показывает пример с Басанговым, просьба была как раз обратной. Но было и иное, его определял зов живой жизни, ее веление. О чем речь? Рядом была великая русская литература, для которой самым характерным было сочетание великих художественных достоинств и демократических устремлений, свободолюбия. Опираясь на это богатство, можно было сделать много доброго и для родной Калмыкии и ее литературы. Наверно, вот эта истина явилась для Кугультинова заветом, следуя которому Кугультинов стал тем, кем известен сегодня. Наверно, закономерно и символично, как советские интеллигенты поколения Кугультинова, будь то грузины, казахи, армяне или калмыки, сегодня знают русскую литературу. Есть некий блеск, для человека завидный, в том, как, например, Айтматов, Сулейменов и тот же Кугультинов владеют русским, нет, речь идет не о языке, хотя и в этом есть, выражаясь традиционно, некий аристократизм, — разговор о большем: как они владеют явлениями русской литературы, обнаруживая ту глубину знаний, которая не возникает вдруг и возможна как результат творчества нового человека, нового и своей принадлежностью к общности людей, которой прежде не было.
И в заключение мы хотели возвратиться к циклу поэта о благодатном апреле. Всем кугультиновским замыслам свойственны глубина и поступательность, идущая издалека и неотвратимо нарастающая, как сказал бы поэт, многоступенчатость.
Апрель в степи душист и светел,
Он — словно жаворонки трель...
Но нынче я средь степи встретил
Совсем особенный апрель...
В нем запах трав и шум широкий,
Весны обычной строй и лад
И мировой весны истоки.
Родившейся сто лет назад...
Так вот куда ведет кугультиновский замысел о степном апреле! Нет, апрель не просто отвлеченный символ пробуждения, не только знак обновления жизни, но и символ революционной нови, живым олицетворением которой является великий учитель:
Мне представляется Река Времен,
В часы, когда я думаю о нем,
Когда его портрет со мною рядом,
Она взлетает, падает каскадом,
То бешено ликуя меж камней,
То с плачем силясь разорвать границы,
А он всю мудрость, что сокрыта в ней,
Вбирает, не утратив ни крупицы.
Все достиженья смелого ума
Постигнув и найдя меж ними звенья,
Он, Ленин, — мудрый, точно жизнь сама...
Да, мудрый, точно жизнь, мудрый и воодушевленный трудом преобразования, — вот суть кугультиновского цикла о революционной весне, шествующей по земле. Стоит ли говорить, как характерно, что у этого цикла такой зачин и такой венец, — на ваш взгляд, здесь весь Кугультинов.
Велик и многообразен мир кугультиновской поэзии. Большой мир, хотя Калмыкия, быть может, и не столь велика. Но, войдя в нашу жизнь, поэт точно и Калмыкию сделал больше, — вот она, сила поэта. Но поэт в пути, и песня его в пути. Тот, кому ведом мир кугультиновской поэзии, убежден: поэт принес нам еще не все свои дары. У поэзии Кугультинова неоскудевший источник — сердце поэта.
Я руку к сердцу приложил, подумал,
Кто там стучит? Не ты ли, песнь моя,
Рождаясь в мир, еще некрепким клювом
Стучишь из скорлупы небытия?
Как ни многотрудна была жизнь, поэт возобладал — его муза набиралась сил вместе с сердцем.
Убежден, что Керашев очень большое имя не только для тех, кто считает родным языком адыгейский, — а их семья сегодня велика, — но и для тех, кто таким языком считает, например, русский, узбекский, грузинский. Это тем более верно, что Керашев, конечно, глубоко адыгейское явление. Нет, я говорю не только о картинах жизни и характерах героев, на которых он остановил наше внимание, у него, как мне кажется, система видения адыгейская, как, впрочем, строй лексики, колорит произведения, его краски. Наверно, и Керашев утвердил своей жизнью в искусстве истину: чем художник ближе к первоистокам народа, тем он, художник, могучее. Однако что есть эта мощь всепокоряющая, если не язык, в данном случае язык адыгов? Емкость, столь свойственная адыгейскому языку, как и его меткость, сделавшая язык крылатым, были взяты на вооружение писателем и истинно окрылили его книги.
Пусть мне будет разрешено сказать в двух словах о мире, который был рядом со мной в постижении Адыгеи и Керашева, — хочу думать, что это имеет отношение к существу нашего разговора. Мой отчий Армавир говорил по-адыгейски. Насколько я понимаю, это был язык юго-восточной Адыгеи, а значит, и керашевского Кошехабеля. Адыгейцы, бывавшие в моем родительском доме, изъяснялись с моей семьей на том самом адыгейском, на каком они говорили в своих семьях. Первые сказки, которые восприняла память, были мне рассказаны по-адыгейски. Правда, бабушка происходила из Кабарды, и некоторых слов я не понимал, поэтому рядом сидела мама. Ее адыгейским восхищались наши гости, приезжавшие из соседних аулов — Коноковского и Урунского. Мать знала историю Адыгеи и высоко почитала доблесть народа. Помню, как она пела адыгейскую песню о ветре, который мчит по морю корабль с гонимыми... Это была необыкновенная песня о родине и чужбине, — когда мать пела, в ее глазах стояли слезы... Эта песня, которую я воспринял из уст матери, многое мне объяснила. Она как бы воссоздавали те не столь уж отдаленные времена, когда мир моих близких был частью мира адыгов. Это было именно так, и быт Армавира сберег следы общности. Это, конечно, был адыгейский быт. Все адыгейское: уклад жизни, система отношений в семье и за ее пределами, одежда, стол... И самое главное: язык. Не знал человека из моих близких, кто бы не гордился своим адыгейским. Мать любила говорить с адыгейцами, любуясь, как она отмечала, «их красноречием». Повстречав адыгейцев, могла принести пословицу: «Человек стоит столько, сколько видят его глаза». Или: «Сделай добро и брось в воду». Помню, как звали из семьи в семью ученого-лингвиста Н. Яковлева, работавшего над грамматикой адыгейского языка, не минув и вашего дома, — Армавир, с его устоявшимся бытом, сберег такое, что мог сберечь только он. Говорю об этом столь подробно, чтобы объяснить свое отношение к Адыгее: для меня это отчее.
Впервые керашевскую книгу мне показала мать — она любила книги Керашева. Вначале это была «Дорога к счастью», которая впервые стала известна читателю под именем «Шамбуль», потом «Дочь шапсугов». Как я писал уже однажды, «Дорога к счастью», прежде чем попасть в наш дом, обошла много армавирских домов. Это было в самом начале тридцатых — в домах плохо топили. Бумага потемнела и взбугрилась, но книга от этого не стала менее читаемой. Мать сидела над книгой по ночам. Нередко при свете керосиновой лампы — за полночь отключали свет. Проснувшись, я заставал ее у лампы — книга лежала в поле света. «Мне надо было бы прочесть Керашева по-адыгейски...» Она произносила это не без боли — наши знали устный, адыгейская грамота была неведома. «Дочь шапсугов» обошла едва ли не весь Армавир. Листая посвященный Керашеву альбом, который земляки писателя выпустили для учителей, — кстати, хороший альбом, — я опознал «огоньковское» издание с портретом Тембота Магометовича — оно было и в нашем доме. Помню, диалог Гулез и княжича был прочитан вслух: «Я, ничтожное существо, лишь соблюдаю законы своего народа. Народ шапсугов ставит человеческое достоинство выше княжеского».
Конечно, воздействие керашевского слова на читателей, которых я наблюдал в родном Армавире, объяснялось тем, что тут было близкое, адыгейское. Но это следует признать лишь первопричиной, заставившей взять книгу в руки. Суть была в ином: в самих достоинствах письма, в том, как были написаны картины жизни, как вылеплены характеры, как воссоздан диалог, в какой мере значительна мысль, к которой обратился писатель. В свете сказанного хотелось отметить главное: в высшей степени поучительно воссоздать грани личности писателя, человеческой и писательской.