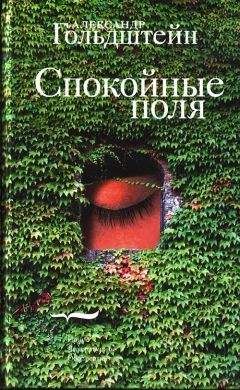Андрей Макин, беспрецедентно для чужака удостоенный сразу двух высших литературных наград, Гонкуровской премии и премии Медичи, потому и снискал эполеты маршальской доблести (да простятся жюри старые прегрешения, кастовость и надменность), что разыграл в биографии и на письме полузабытые, но важнейшие мифообразы французского повествования о писательской судьбе и успехе, выразив их с объемной наглядностью, будто на голографической карте. Макин сам оказался живым воплощением мифологии, знаком парижской несгинувшей щедрости, и сегодня, как в лучшие времена, настигающей тех, кто войдет в этот город с любовью и осуществит себя в нем сообразно Традиции.
Безвестный скиталец, он явился с далекой окраины (что не Париж, то глухая провинция) и приступом взял бастионы надежды, отогнав осаждавшие его ложе призраки нищеты. Обреченный на бесприютность, он восстановил ощущение баснословной эпохи, когда город был средоточием западной литературной вселенной и соленый ветер надувал паруса иностранцев, устремлявшихся сюда за добычей. Огромный мир расстилался перед обученным языкам эмигрантом, а он спал и видел Париж, сызмальства держа в сознании облик своего вожделения, отказываясь его променять на другое безумие, свято уверенный, что величие не уходит и надобно быть в его сердце, как бы ни клеветала бессовестная клика заморских враждебных столиц, этих воистину Вавилонских блудилищ. Париж, говорит он примером и словом, есть навеки славная участь для автора, жребий достойных, и всякий, этот жребий избравший, никогда не раскается. Роман его есть ода на взятие французской культуры, посвящение в галльскую литературную веру и речь, опыт инициации, поведанный как бы со стороны, на самом же деле — из той глубины погружения, что неведома натуральным жителям языковой космосферы, уже равнодушной к ее поднадоевшему совершенству и с младенчества примелькавшимся чудесам. Чтобы сообщить атмосферу этого глубоководного погружения, сродни тому, что более века назад было предпринято американским этнологом Кашингом, на несколько лет запаявшим себя в капсулу индейского племени — недолго спустя ему, уже овладевшему ручными понятиями, снился койот, обрамленный чередованием циклов Луны, — чтобы передать тотальный и откровенный, в религиозном значении слова, характер этого путешествия, он, русский с инородной сомнительной четвертинкой в крови, разумеется, должен был поменять свой язык и действительно написать роман по-французски, окунув его в околоплодную влагу второго рождения.
Если бы Макина не было, его следовало бы выдумать. Но Макин сам пришел туда, где в нем страстно нуждались, и, что называется, положил на стол иностранцем написанный текст, в коем уместились признания, давно не слышанные нервным ксенофобным гигантом, уже отвыкшим, что его могут любить чужаки. Ни капли не расплескав из своего заветного кубка, литература французов, извлекаемая мечтательным отроком из бабушкиного книжного шкафа, обладает спасительным действием — это исцеляющее снадобье, эликсир для души, лекарство отверженных, т. е. призванных к высшему поприщу и ремеслу. Каждый изведавший этого высшего вкуса охладевает к любому другому. Его не устраивает уже и родная словесность, он чувствует ее недостаточность по сравнению с обретенными драгоценностями и закономерно становится отщепенцем, намереваясь возместить это изгнанничество принадлежностью к новому племени, к новой, обещающей негасимость, любви. Хрестоматийная бабушка, ключница фантазий и прошлого, приготовляет внука к несчастьям уединения, отгороженности от людей, за исключением пропахшего снегом да лесом поэтичного одноклассника-варвара, но зато отворяет пред ним французскую дверь, и за ней — край святых чудес, дорогие могилы, колыбель воскресения и предвестие славы. Андрей Макин не подольстился к жюри, оно различило бы угожденье и ложь. Он рассказал историю о мистически возникшей привязанности, о зове чужого и искреннем, сулящем одинокое счастье ответе на этот настоятельный зов. Он явился в Париж и вдохновенно, как не удалось никому из его нынешних компатриотов, — воспел страдальчески завоеванную им историю и язык, Макин известен нам в русском переложении «Французского завещания». Судя по отражению в этом смещающем зеркале, проза лауреата с неподдельным тактом обслуживает лирические механизмы, запущенные, к примеру, «Большим Мольном» Алена-Фурнье (эта повесть о тайне, слезах, ожидании и провинции нами читана опять же по-русски), а также, чуть одолжаясь у них, соседствует с некоторыми ходами Саши Соколова в его «Школе для дураков», в целом более плотной, взвихренной и, как отмечено классиком, «трогательной и трагической». Возможно даже сближение с приемами Сорокина, стилизующего тургеневскую и почвенную линию усадебной прозы, — но у последнего под занавес начинают пожирать трупы, и язык, разложившись от учиненных над ним непотребств, сгнивает заживо, сходит с ума, тогда как Макин, демонстрируя не поп-арт, а непосредственность сказа, последовательно выдерживает интонацию элегических восхвалений.
Биографию Гонкуровского лауреата должны наизусть заучить арендаторы собачьих, за двести долларов, будок, трепаных пиджаков и обиженно пищащих компьютеров. Мученики литературы и визионеры наградных церемоний обязаны знать, что в детстве им поведали правду и видения исполняются. Во всех ли деталях эта биография достоверна, вопрос некорректный. Миф не живет по законам рептильной эмпирики, важен урок и пример, знаменательный вызов, отказ схоронить себя в гадкой тюрьме, но есть подозрение, что в макинской летописи почти ничего или даже совсем ничего не придумано. В Париже он оказался немногим более десяти лет назад, за холмом были Новгород, Сибирь и Москва, французская бабка Шарлотта, языковой факультет, книжный шкаф, поденщина для газет и журналов; впереди — заревое и жаркое упование. Не отвлекаясь на мелочи, он принялся сочинять свой французский роман. Деньги истратились так невозвратно, что вскоре он ограничился хлебом и сыром, а когда нечем стало оплачивать гробовую, в мансарде или подвале, каморку, ночевал на садовых скамейках, едва не сомкнувшись с уделом клошаров. Все-таки он дописал эту прозу, и даже недоверчивый разбор и холодный анализ констатируют против желания, что ей удалось избежать отравления голодом и нищетой, а главное, вызываемой этими напастями торопливостью, побуждающей автора в минимальные сроки закончить свой труд, чтобы, продав его, молодецким ударом разрубить цепь несчастий. Очутившись у скользкого края ямы — недоставало лишь толчка в спину и свежих, брошенных на его тощее тело комьев земли, Макин словно никуда не спешил, возможно, руководимый предчувствием, что испытание не закончено, либо ведомый другим, столь же вещим наитием, шептавшим ему нанести еще один элегический слой, и рукопись вспыхнет огнем, которому не будет преграды. Месяцами мурыжили текст по редакциям, сомневаясь в умении чужестранца связно излагать мысль на выученном языке; потом, когда были явлены доказательства, ласково предложили издать русскую версию сочинения: авось, на кириллицу кто-нибудь клюнет и по дешевке, вычесав причуды и вычурности, спровадит экзотику в изначальную, французскую сторону, но уж понятно для покупателя, без отвратительных прустовских и славянских излишеств. Стерпел Макин и это, дождавшись неискореженной публикации и всей чистоты взрыва, зимней сказки блаженного сна. Его благословили Гонкуры и Медичи, дотоле ни разу не выносившие единогласного приговора, а перевод на двунадесять языков, обернувшийся миллионом проданных экземпляров, позволил обзавестись монмартрской квартирой, домом в деревне и плюнуть на все, кроме литературных занятий, — их зрелым плодом стал второй по счету роман, уже удостоенный, по неостывшим следам первого, нескольких иноязычных изданий.
Коллегам — писателям и журналистам — от этой чудовищной наглости сделалось дурно; эмоция здоровая, правильная, осуждать их нельзя. Популярные люди черным по белому напечатали в популярных газетах, что рукопись Макин украл, что он нанял (на какие, полюбопытствуем, деньги?) талантливого французского самородка, что он — нелегальная сволочь и иммигрант, жульнически выигравший в лотерею, что его место в сплоченных рядах драящих сортиры иностранных рабочих, что он должен пролить три мешка крови, прежде чем разживется священным французским гражданством, однако ж, и после того паспорта ему не видать — изощрялся, заметим, не лепеновский сельский актив, но парижский, обычно вполне респектабельно пишущий корпус. Гражданство Андрею Макину по прошествии многих лет и отказов было даровано личным распоряжением Жака Ширака. Следует признать, что известная своей леденящей безжалостностью секта браминов из премиального капища оказалась символом великодушия сравнительно с демократическим государством и его либеральною прессой.