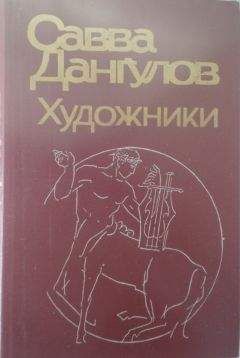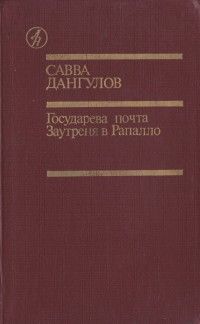(Малоречивая Памела Джонстон прошлый раз отважилась произнести по существу этой проблемы нечто такое, что в ее устах звучало воинственно: «Мы ведем борьбу против того, что вы называете формализмом. В английском искусстве и литературе к концу первой мировой войны была опасность ухода в бесплодное эстетство... Вильф научила нас лучше видеть, Джойс — лучше слышать. Мы признаем это и не хотим выплескивать вместе с водой ребенка. Но некоторые писатели, объявившие себя их последователями, уже ничем, кроме формы, не интересовались. Большая часть их книг напоминала прекрасную фигуру без головы. Между тем стиль произведения рождается из его содержания, а не наоборот».)
Разговор пододвинулся к своему пику, и наши гости, показавшиеся спервоначалу кроткими, обнаружили качества, которые делали их все более отважными в отстаивании принципов, о которых шла речь.
— То течение в литературе, которое принято называть критическим реализмом, и по сегодняшний день — главное в английском романе. Конечно, существуют другие течения, которые нам лично не нравятся, хотя среди представителей этих течений есть талантливые люди и пишут они талантливые книги. Из писателей того направления, которых мы называем представителями «символического романа», самый талантливый — Уильям Голдинг.
Беседа обретает свое продолжение, и возникают все новые и новые ее границы. Если принять термин Сноу «символический роман», то надо признать, что этот роман нашел на континенте более благоприятную почву и в большей мере привился, чем, например, на Британских островах, — так ли? Наши гости соглашаются не без раздумий. Пожалуй, так. Как полагают наши гости, символический роман никогда глубоко не проникал в британскую почву, в то время как, например, в той же Франции он взялся с силой заметной. Англия и в этом страна классических традиций, тут нет для символического романа подходящих условий. «К тому же англичане для этого слишком трезвые и практичные люди». Не без улыбки наши гости говорят о французском «новом романе», заметив, что круг его читателей невелик. «У нас есть книги, которые никто не читает, но о которых много пишут», — говорит Сноу со снисходительной улыбкой — и в своей иронии он щадит.
Сноу явно не сказал главного из того, что хотел сказать в этот день и что логически следовало из всего строя его реплик. Но он готовился сказать это и произнес все в той же спокойно-раздумчивой манере, как бы завершая разговор:
— По-моему, величайший из романистов на земле — это Лев Толстой. Он смотрел па мир глазами нормального человека, но в десять раз интенсивнее видел и чувствовал. Видение Толстого никогда не было искаженным, смещенным...
Мне казалась эта формула в высшей степени характерной для Сноу — полагаю, что в ней эстетика писателя. То обстоятельство, что человек такого интеллекта и такого творческого диапазона, как Сноу, сделал своеобразным девизом своего художнического мироощущения эту формулу, говорит о том, что будущее у метода, который если не тождествен, то близок образу мышления Сноу.
Как я писал в главе, посвященной Шолохову, в дни пребывания в Лондоне я был у супругов Сноу. И был принят в их городской квартире, расположенной в массивном белокаменном особняке; в подъезде наряду с прочими металлическими досками, отливающими хорошо надраенной медью, была и доска, необходимая мне: «Лорд Чарльз Перси Сноу». Хотелось думать, что мне откроет швейцар в униформе, украшенной золотым шитьем, и я был немало озадачен, когда передо мной возникла Памела Джонстон, одетая в простенькое домашнее платье, не успев, как мне показалось, снять фартука, в котором она, дожидаясь гостя, явно провела последний час на кухне. Все ожидал, не ожидал, что за медной доской, украшенной громким титулом лорда, меня встретит вот так хранительница домашнего очага.
Явился Сноу и повел в гостиную, в которой уже был накрыт стол к ужину. Но массивная доска, слепленная из знатной меди, увиденная в подъезде дома, была и виновницей иного. Казалось, что вот-вот распахнется дверь и лакей вкатит колясочку, на трех полках которой в чинном порядке поместится наш ужин, но ничего похожего на это не произошло. Первозданная тишина окружала нас, изредка нарушаемая мягкими шагами Чарльза Сноу и Памелы Джонстон, — как привиделось мне, охраняя тишину, хозяева были обуты в туфли, скрадывающие шаг. И будто не было паузы между нашей встречей на Пятницкой и здесь, в белокаменном особняке в теккереевском районе Лондона, Сноу продолжил свою мысль о Толстом (помните: «Он смотрел на мир глазами нормального человека, но в десять раз интенсивнее видел и чувствовал»). Однако речь зашла сейчас о Шолохове. Как было помянуто и другом месте этой книги, супруги Сноу только что возвратились из поездки в нашу страну, побывав па Дону, в Вешенской, и к этому экскурсу в шолоховские места были свои основания.
То, что я сказал о Толстом, можно распространить на Шолохова, и одно это многое объясняет в родстве, связывающем авторов «Войны и мира» в «Тихого Дона», как, наверно, а мои симпатии к Шолохову, — сказал Сноу и улыбнулся — ему было приятно это открытие.
Но когда закончился шолоховский тур беседы о романе, Сноу осторожно переключил разговор на иную тему, которая волнует его, пожалуй, не меньше, чем проблема романа. По тому, как осторожно Сноу подступился к этому сюжету, вызвав заметное волнение хозяйки дома, можно было предположить, что речь идет о предмете значительном.
— Не считаете ли вы, что вашей интеллигенции грозит опасность раскола? — спросил Сноу.
Если бы этот вопрос задал мне не Сноу, я, пожалуй, смешался бы, прежде чем на него ответить, но Сноу подтолкнул меня к верному ответу.
— Раскола? — переспросил я тем не менее. — Это как же попять? Физики и лирики?..
Он улыбнулся не без печали:
— Можно отыскать и это название, будь это не так печально...
— Тогда я вас слушаю...
Он готовился ответить на мой вопрос, в то время как хозяйка была занята столом. Я заметил: в лилейной белизне скатерти и салфеток, как и в блеске столового серебра, была чистота первозданная. Это был чайный стол, но к столу были поданы холодные закуски: все свежее, показавшееся мне немыслимо красивым. В том, как был накрыт стол, было изящество и простота, с которыми, очевидно, все делалось в этом доме.
— Проблема, о которой я хочу говорить, была впервые декларирована мною в двадцать пятом году в публичной лекции, которую я прочел в Кембридже, — произнес Сноу, наблюдая, как хозяйка накрывает стол. — Помню первое название лекции: «Две культуры — гуманитарные и точные науки». Смысл того, что я хотел сказать моим слушателям, можно было сжато изложить в следующих словах: по мере того как прогрессирует знание, углубляется пропасть между гуманитариями и представителями точных наук. Одни не понимают других, не понимают и не хотят понимать. Если все-таки в случае необходимости возникает диалог, то это диалог глухих. Это столь серьезно, что способно обратить ум на размышления, лишенные перспективы. Ученые знают, что условия существования личности трагичны, несмотря на все победы и радости, что основа бытия такой личности — одиночество и в конце смерть. Но они не хотят из этого делать вывод, что и социальные условия тоже должны быть трагичными. То, что человек в конце концов умирает, не должно служить оправданием преждевременной смерти». Настаиваю на мысли, высказанной неоднократно прежде: основы современной науки должны быть освоены писателями как материал для их произведений, как часть нашего умственного опыта. Без этого отражение процессов, происходящих в нашем веке, будет искаженно. Но, например, в такой стране, как Великобритания, образование в такой мере разветвилось, что трудно себе представить, как такую систему образования можно осуществить. Положение достаточно серьезно, взаимная враждебность имеет тенденцию лишить одну и другую стороны общего языка, угрожает гибелью самой культуре. Большая часть наших писателей ничего не понимает в науке, и это является косвенным объяснением того, что их представление о реальной жизни деформировано и смещает видение жизни, заменяя восприятие реального бытия атрибутами того, что я условно назвал «символическим романом»...
Как видите, я привел разговор к тому, с чего начал... Мысли Сноу, высказанные им и в его острых публицистических работах, явились предметом живого спора и в нашей прессе. Наша критика отозвалась на этот тезис Сноу достаточно сочувственными репликами, хотя не во всем согласилась с английским писателем. Отметив, что Сноу верно объяснил коллизию обостряющимися общественными противоречиями капиталистического мира, критика особо отметила, что английский писатель не раскрыл до конца социальные причины конфликта, не утвердил основополагающую для этой проблемы истину: противоречия в обострившихся отношениях мира капитализма. Социальная и этическая атмосфера, которой были окружены эти отношения, не столько препятствовала этим противоречием, сколько их стимулировала.