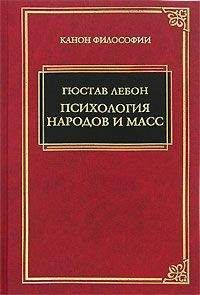– Сокровищница, – шепнул Вер.
Их окружало огромное собрание драгоценных камней. Большинство хранилось в ларцах, но самые эффектные экземпляры были выложены на подставки, развешаны по стенам или просто лежали на крышках сундучков, оставленные Адрианом, Сабиной или прислужниками, имеющими сюда доступ. Из одних камней вырезали камеи. Другие прошли огранку и укра шали ожерелья или серебряные и золотые браслеты. Третьи оставались в естественном виде. Здесь были рубины и сапфиры, изумруды и ляпис-лазурь, аметисты и яшма, сердолик и агат, тигровый глаз и янтарь.
– Не мог же Адриан приобрести столько драгоценностей в путешествиях? – прошептал Луций.
– О нет. Сокровищница собиралась поколениями императоров. Нерон дошел до столь отчаянного положения, что продал значительную часть унаследованных богатств, но Веспасиан и другие, после него, сумели многое восстановить. Видишь то сердоликовое ожерелье? Оно было на царице Клеопатре в день ее смерти. Августа разъярило ее самоубийство, и он собственноручно снял его как трофей.
– Я и не подозревал о существовании такой коллекции.
Луций был потрясен. Ему случалось видеть огромную императорскую виллу, раскинувшуюся в Тибуре. Он стоял подле отца на торжественных открытиях Пантеона и храма Венеры и Ромы, крупнейших и грандиознейших зданий, какие видел мир. Он понимал, что Адриан баснословно богат, но сейчас, взирая на окружающее великолепие, осознал, что достояние императора превосходит всякое воображение.
– Здесь бывали очень немногие, – сказал Вер. – А еще меньше видели вот это.
Он открыл ларец, вынул оттуда кристалл и, держа его двумя пальцами, подставил под ближайший солнечный луч.
Луцию почудилось, будто перед ним предмет из мира снов. Восьмигранный, величиной с грецкий орех, камешек был прозрачным, однако поглощал свет и возвращал его в головокружительном смешении красок. Луций в жизни не видел ничего подобного.
– Он называется алмаз, – пояснил Вер. – Безоговорочно признано, что это самый крупный и совершенный образчик из всех когда-либо найденных. Он не только красив, но и неразрушим: не горит в огне, его не берет сталь.
– Откуда он взялся?
– Мы думаем, его приобрел Домициан. Тот был настолько скрытен, что унес историю камня с собой в могилу, но алмаз, должно быть, из Индии – родины всех настоящих алмазов. Нерва подарил его Траяну в знак благоволения. Траян – Адриану в награду за командование Первым легионом Ми нервы. Редчайшая драгоценность в коллекции, а значит, и в мире.
– Потрясающая вещь, – согласился Луций.
– Сам я мало интересуюсь драгоценными камнями и прочими атрибутами богатства, – признался Вер. – Материальные предметы не имеют внутренней ценности – только ту, которую приписывают им люди. И все же, глядя на такую красоту и совершенство, я думаю, что в каком-то смысле они служат проявлением того, что Аполлоний называл Божественной Сингулярностью.
– Я мог бы смотреть на него часами, – произнес Луций. – Спасибо, что показал.
Вер улыбнулся:
– Но самое драгоценное здесь не алмаз, а предмет, который ты носишь на груди.
– Ты правда так думаешь? – Луций скосил глаза на фасинум, который на фоне несокрушимого совершенства алмаза представился недолговечной вещицей грубой работы. Ему не верилось, что друг говорит всерьез, но тот не стал бы шутить в подобном случае.
– Правда. Я говорю не только как Марк Вер, твой товарищ, но и как Вериссимус, который превыше всего любит Истину.
138 год от Р. Х.
Месяц юний выдался необычно жарким. Месяц юлий обещал быть еще жарче. Надев тогу и вытирая со лба пот, Марк Пинарий следовал в императорский дворец, куда его пригласил посланник государя.
Марк уверял себя, что потеет из-за жары; человеку за пятьдесят в такую погоду положено передвигаться в паланкине, а не пешком. Однако на деле скульптор еще и не на шутку волновался. Он не видел императора уже месяцы, и приглашение во дворец служило поводом не к радости, а к мрачным предчувствиям. Адриану исполнилось шестьдесят два. Его здоровье стремительно ухудшалось, и болезнь выявила опасную, даже жестокую грань его личности. Двадцатилетней давности клятва не убивать сенаторов пошла побоку. Все, кто имел дело с императором, пребывали в унынии и страхе.
Марка проводили не в приемный зал, а в личные покои Адриана. Слуга оставил его в помещении с балконом, который нависал над садом. Льющийся оттуда яркий солнечный свет сперва ослепил Марка, не позволяя рассмотреть обстановку; лишь постепенно увидел он роскошную мебель, элегантные статуи, настенную роспись – и обнаружил, что он не один. На кушетке вырисовывалась фигура, сидящая спиной к солнцу. На секунду Марк принял мужчину за Адриана – тот напоминал императора шевелюрой и бородой, – но поза выдавала человека более молодого. У Марка замерло сердце, ибо ему почудилось, что он глядит на Цейония, который умер в януарские календы. Ходили слухи, что его лемур застрял во дворце, мучимый скорбью Адриана.
Но сидящий был старше Цейония и моложе Адриана, годами где-то за сорок, и оказался в полном здравии, хоть и печален.
– Должно быть, ты Марк Пинарий, – сказал он тихо. – Я Тит Аврелий Антонин. Мы вряд ли встречались, но ты, наверное, знаком с моим племянником, молодым Марком Вером. Точнее, сыном, – очевидно, теперь я должен называть его именно так.
Итак, перед Марком был человек, которого Адриан, горько разочарованный смертью Цейония и подгоняемый собственной скорой кончиной, произвел в преемники. Адриан потребо вал, чтобы Антонин принял в качестве наследников сына покойного Цейония и юного Марка Вера. Вер взял себе имя нового отца и стал Марком Аврелием, третьим в очереди претендентом на престол.
Навязанное усыновление было не единственной уловкой, задуманной Адрианом в стремлении контролировать будущее. Казалось, он упорно продвигает или устраняет окружающих, точно фишки на игральной доске. Находясь в угнетенном состоянии, прикованный к постели, одержимый заботой о престолонаследии, он казнил и вынуждал к самоубийству тех, кого считал излишне честолюбивым.
Самой последней и самой нашумевшей смертью явилось вынужденное самоубийство его девяностолетнего шурина Сервиана, которого Адриан заподозрил в стремлении возвысить внука. Скандал разразился и после смерти императрицы Сабины: кое-кто из ее родни осмеливался шептать, будто Адриан ее отравил.
– Мне сказали, что меня зовет Цезарь, – ответил Марк.
Антонин кивнул:
– Едва проснувшись утром, он сразу потребовал привести тебя.
– Молюсь, чтобы застать Цезаря в лучшем здравии, чем при последней встрече.
– Полагаю, ты тактично пытаешься справиться о его состоянии. Скоро увидишь сам. Постарайся не испугаться. Все тело распухло от жидкости. Лицо раздулось так, что ты вряд ли узнаешь Адриана. Говорят, нечто подобное произошло в конце и с Траяном.
– Могу я спросить о состоянии рассудка Цезаря?
Антонин пронзил его взглядом.
– Ты знаешь его очень давно, и я не стану лгать. В последние дни он несколько раз пытался покончить с собой. Сперва приказал рабу зарезать его. Когда тот отказался, он попробовал заколоть себя сам, но оказался слишком слаб. Потом потребовал у лекаря яда. «Цезарь просит меня стать его убийцей», – пролепетал несчастный, а Адриан процитировал ему из Софокла: «…Целителем ты будешь, всех мук моих единственным врачом»[37], – слова Геркулеса из «Трахинянок», произнесенные в агонии, с мольбой к сыну сжечь его. Лекарь отказался дать яд, за что Цезарь распорядился его казнить, а заодно и всех остальных, кто препятствовал его попыткам самоубийства.
Марк вытер со лба свежие капли пота.
– И лекаря лишили жизни?
– Разумеется, нет. Я просто убрал с глаз Цезаря провинившихся и заменил их другими людьми. Всем им строго наказано зорко следить за государем и пресекать новые попытки самоубийства. Между тем Цезарь, коль скоро врачи не смогли его исцелить, призвал чудотворцев и колдунов. В основном, как я не сомневаюсь, шарлатанов, но совсем недавно Цезарю стало немного лучше. Он настаивает, что достаточно здоров для поездок, и завтра намерен отбыть в Байи. Говорит, что окрепнет от морского воздуха. А перед отъездом желает увидеть тебя.
Антонин довел гостя до опочивальни и отворил дверь, но отступил, дав понять Марку, чтобы тот вошел один.
Шторы были задернуты, защищая покои от солнца. При свете нескольких ламп Марк увидел на постели уродливо разбухшую фигуру императора. С пьедестала в изножье взирала на Адриана статуя Антиноя.
Как и предупредил Антонин, отеки сделали Адриана почти неузнаваемым: щеки, подбородок и даже лоб чудовищно опухли, тогда как глаза и рот казались маленькими и узкими. Но когда император заговорил, голос был прежним, разве что сильнее прорывался старый испанский акцент.
– Пигмалион! Это ты?
– Я. Цезарь желал меня видеть?