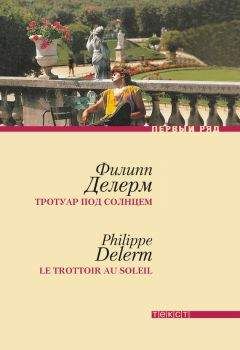Видны и картины, иной раз успеешь рассмотреть сюжет и фактуру, но чаще остается только впечатление: там висели картины, заключенные в рамки кусочки застывшего времени. Включенный телевизор – редкость. Обитатели этих домов не гонятся за сиюминутным. Они живут не в унисон с суетливой толпой. Поздно вечером они проводят время, как им нравится: потягивают бордо, расхаживают по дому босиком.
Проезжая мимо, радуешься этому совершенству, скорее всего мнимому, – понятно, что не бывает у людей такой идеальной жизни под низкой лампой, даже если их длинные тени неспешно ложатся на стены с книжными полками и картинами. Но как же хороши светящиеся окна с темными фигурками на синем фоне зимнего вечера! Прикасаешься вот так, мимолетно, к этим жилищам, и кажется, они принадлежат тебе больше, чем самим владельцам. Такие мысли бродят в голове, когда выходишь на своей станции и попадаешь под колючий ветер.
Идея, или, как говорят рекламщики, проект, Антуана де Максими[14] необычна с самого начала. Он бродит по миру в одиночку с довольно пестрым кино снаряжением – одна из камер закреплена на специальной раме над плечом – и снимает, записывает голоса. Встречается с незнакомыми людьми в разных странах. Фильм «Переночую в Голливуде» – маленький шедевр этой серии. Автор совершает путешествие по Соединенным Штатам в экстравагантном транспорте – автокатафалке красного цвета.
Смысл всей затеи в неожиданных встречах. Антуан де Максими расхаживает всюду с видом стороннего наблюдателя, этакий Керуак-аристократ. И эта сдержанность, напускная раздумчивость позволяют ему гораздо лучше разговорить и вызвать собеседника на откровенность, чем вульгарное панибратство. Перед ним открываются двери. Некоторые люди приглашают его остаться до утра. Просто пускают переночевать, без всякой задней мысли. Не всегда получается напроситься, и, думаю, отказы в фильм не вошли. Удивительнее другое – что иногда все же получается! Ведь шутки шутками, а в фильме видно, что люди весьма недоверчивы друг к другу.
Визит в семейство амишей[15] – просто ужас! Вот они, взрослые и дети, приветливо улыбаясь, выходят навстречу гостю. Но в разговор вступает только отец с курчавой длинной бородой, и очень скоро становится ясно, что учтивость его – удобное прикрытие полнейшей неприступности. Решительного отказа от всякого общения. Нежелания иметь хоть что-то общее. Такая странная, вежливая форма закрыться на замок, за которой угадываются опаска и тревога.
Совсем другое дело – семья индейцев навахо. Им приходится ютиться на скудных землях, куда их поселили, дав возможность прозябать и угасать. Мать особого гостеприимства не проявила, зато дочь оказалась на редкость великодушной. В конце концов, Антуан у них остался на ночь. А на другой день брат девушки несколько смущенно попросил его уехать: вы хороший человек, но ваша машина, ваш образ жизни оскорбляют наши обычаи. Вы должны уйти. Это было сказано очень твердо. В глазах сестры – невыразимая печаль. Безысходность заброшенных в социальное гетто, но сколько затаенного сочувствия! Американской полиции Антуан де Максими не по нутру. Получая какое-то чисто формальное разрешение у одного полицейского, он вынуждает его признаться: тот был бы рад спровадить режиссера куда подальше.
Кто-то смеется, кому-то неловко, а кто-то и тронут. Самая распространенная реакция – захлопнуть дверь, но остаются щелки, через которые пробиваются горячие искры. А значит, несмотря на все предрассудки и барьеры, в душевных недрах не остывает человечность. Антуан де Максими, со своим замысловатым снаряжением, чудесным образом пронзает земную кору до самой лавы.
Сентябрь. Красивое слово, с колыханием листьев в конце. В нем слышится и летнее тепло, и осень. И вечно, боясь не успеть, забегаешь вперед. Числа 22–23 августа ты мысленно уже начал учебный год. Уже не надо собирать портфель, покупать цветные карандаши, продавать прошлогодние учебники в школьном коридоре. Но все это подспудно присутствует в ощущении возврата в колею. Как у школьника, хотя нет больше ни страха, ни желания попасть к тому учителю, а не к другому – ты словно учишь сам себя, сам себя загоняешь в тиски расписания и стонешь, как когда-то при виде столбиков уроков, выписанных на зеленой доске скрипучим мелом, – притворно стонешь, потому что эта сетка удерживает время.
Мечтаешь, что когда-нибудь возьмешь и поедешь отдыхать в сентябре. Конечно, раньше темнеет и ночи уже холодные, зато насколько меньше народа! Но знаешь про себя, что прелесть сентября еще и в том, что тебя всюду настигает его знакомый ритм; как раз сейчас, должно быть, закончились занятия и дети, наскоро перекусив и отложив уроки на потом – успеется! – высыпали на площадь, – в первые школьные дни они никак не могут наиграться. Отпечаток школьных лет сохраняется на всю жизнь, в те годы ты вроде бы только и делал, что ерепенился, но каждое преодоление укрепляло вкус к свободе. Так что в конце концов говоришь, как король у Ионеско: «Хочу начать сначала!»[16]
«Атлас XX века», издательство «Фернан Натан», Париж, год не указан, по виду 1950-й или около того. В бледно-зеленой картонной обложке с замусоленной матерчатой закладкой. Открываешь и видишь на каждой странице черно-белые фотографии и цветные географические карты. Почти все страницы двойные – с откидными клапанами. На одних фотографии расположены перед картами, на других – после, и это небезразлично для восприятия. Как соотносится десяток симметрично расположенных на клапанах картинок (иногда крупный снимок посередине) со сложными контурами цветных карт: предваряет или отражает их? Ты ведь не просто перелистываешь страницы, а каждую раскладываешь, это удлиняет действие, придает ему что-то головокружительное. Ты сам владеешь миром или же он распоряжается тобой?
В политической карте Европы недолго запутаться. Швеция, Франция и Алжир почти одинакового бледно-фиолетового цвета. А Австрия и Англия едва отличаются друг от друга оттенками вяло-розового. Больше всего бросается в глаза тускло-зеленое пятно СССР, тем более что и страны-то такой уже нет. Сегодня бывшие кусочки московской империи, которые тут обозначены лишь надписями на сплошном зеленом, и сами добавляют многоцветья: Латвия, Литва, Украина… Размашистые синие дуги авиалиний контрастируют своей прямизной с извилинами рек. И никакой логической связи между раскладными страницами пестрой Европы. Свальбард, охота на кита – скотный рынок в Гронингене – сплав леса по реке Юснан (Швеция) – нефтепромыслы в Морении (Румыния) – высокогорный перевал Гемми в Бернских Альпах – генуэзский порт.
Мир в атласе «Фернан Натан» прекрасен. На картах он такой причудливо запутанный, сложносплетенный. Но все проясняют соседствующие с ними фотографии – путаница карт оказывается никому не нужной фикцией, чистой абстракцией. Как только нагромождение линий и букв обрастает плотью, перед тобой открывается безмятежно застывшая бесконечность. Можешь сколько угодно разглядывать доки генуэзского порта, доменные печи в Новой Каледонии или улицу в Йоханнесбурге. Настоящая жизнь – в деталях, в квадратиках фотографий. Но и обобщение небесполезно. Оно придает особый смысл, скажем, попытке виртуально погулять по полю сахарного тростника в Квинсленде. Частица мира – подобие целого мира. Эта книга – не учебник географии, а фрактальная модель. «Атлас XX века», издательство «Фернан Натан», Париж.
– Давай перейдем на другую сторону?
– Зачем?
– Там солнце.
Нам и в тени было неплохо и нисколько не холодно. Прекрасный летний вечер. На улице много народу, никто не спешит, все гуляют. До или после ужина? Кто как – в городе не поймешь. После затянувшихся судорог зимы и припозднившейся весны так хорошо неторопливо размять все мышцы и суставы, почувствовать вкус ходьбы, вместо того чтобы просто куда-то нестись. Вот он, прекрасный вечер, ты переживаешь его здесь и сейчас.
«Там солнце» – это слишком сильно сказано. Дома на той стороне уже отбрасывают синие тени. Всего и солнца-то, что прогалины перекрестков, светлые пятна на террасе кафе да вон там, на углу, освещенная скамейка. Там мы и усядемся, вытянув ноги и заложив руки за голову. Странно – вот уже автомобили включили фары, и светофор в конце квартала рубиново разгорелся. Шум улицы, который ясным утром нарастает, становясь все более отчетливым, теперь, наоборот, стихает, глохнет. Смотришь прямо на солнце и, только когда запляшут зеленые блики в глазах, опускаешь веки. Тихо, без всяких трагедий, меркнет вечность, не исчезает, а скорее засыпает в ровном приятном тепле. Это не столько думается, сколько ощущается всей кожей. Тротуар под солнцем.
Сахарная глазурь и в середине вишенка. Такой была верхушка маленького пудинга в кондитерской «Ле Бра» у вокзала Сен-Лазар, под лестницей в большом универмаге. Белая ломкая льдинка. Я не начинал с вишенки. Ее надо было заслужить, добраться до нее, как до картинки в книжке из «Библиотеки приключений». А под сахарным слоем – нежное коричневое чудо, греющее душу, как теплый дом посреди снежной равнины.