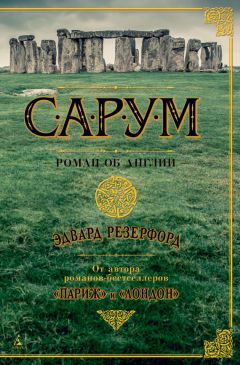– Англичане живут бедно, зато едят вдоволь.
Подобного мнения придерживались многие европейские купцы.
Впрочем, волновался Эдвард напрасно. Едва они миновали массивные каменные ворота и по аллее, затененной деревьями оленьего парка, подъехали к особняку, фламандец восхищенно ахнул:
– Какая красота! Ничего подобного я прежде не видел.
Пятнадцать лет назад Форесты перестроили старинный особняк, и сейчас его стены, влажные от недавнего дождя, сверкали под ярким солнцем.
– Словно шахматная доска! – изумленно выдохнул фламандец.
Пятиоконный прямоугольник особняка с обеих сторон обрамляли два крыла с остроконечными двускатными крышами и высокими фронтонами, а вход находился строго посредине, под низкой широкой аркой. Больше всего восхищала каменная кладка стен, чередовавшая серый камень из местных карьеров с ловко расщепленными пластинами кремня; фасад, разделенный на светлые и темные квадраты, каждый около фута шириной, действительно напоминал шахматную доску, сверкающую в лучах солнца, будто стекло. Такую кладку применяли и в других областях Англии, но мастерство сарумских каменщиков оставалось непревзойденным. Фламандец с таким неподдельным восхищением разглядывал особняк, что даже не заметил, как во двор вышел Томас Форест. Внимание гостя привлекла одна особенность здания, весьма характерная для тюдоровской Англии.
Фламандец, не отрывая глаз от печных труб, во весь голос воскликнул:
– Боже мой, что это?!
В правление Генриха VIII знатные господа стали украшать свои особняки необычайно высокими печными трубами, затейливо сложенными из красного кирпича, с замысловатыми черепичными колпаками. Авонсфордский особняк на всю округу прославился восьмигранными трубами, увенчанными массивными колпаками с отделкой из ажурных фестонов по краям. Казалось, трубы свидетельствуют о высоких устремлениях владельцев.
Встреча прошла успешно, и примерно через час новые компаньоны заключили сделку, условия которой были довольно просты: фламандец обязался выступить торговым представителем нового предприятия, Форест предоставлял средства для ведения операций, а также брал на себя долги фламандца под залог дома в Антверпене. Таким образом, фламандец попадал в полную зависимость от Фореста.
– Он привык жить на широкую ногу и тратит деньги быстрее, чем зарабатывает, – объяснял приятелю Шокли. – Долг он никогда не вернет, так что дом все равно тебе достанется.
Покончив с делами, мужчины расположились в удобных креслах посреди просторного зала, обшитого темными дубовыми панелями, и перешли к непринужденной беседе.
– В этом году англичане протестантскую веру исповедуют, да? – с улыбкой начал фламандец. – А как на будущий год молиться будете?
Шокли хотел было возмутиться, но Форест жестом оборвал его.
– В Антверпене ходят слухи, что ваш юный государь болен и скоро умрет, – продолжил фламандец. – Кто знает, что будет…
– Ничего подобного! – возразил Шокли.
В прошлом году он своими глазами видел короля, проезжавшего через Сарум, – бледный и тщедушный Эдуард VI благосклонно улыбался своим подданным и с видимым удовольствием принимал приветствия ликующей толпы. В феврале действительно поговаривали, что король прихворал, но лондонский торговец заверил Эдварда, что здоровье его величества пошло на поправку.
К удивлению Шокли, Форест и на этот раз не стал спорить, а невозмутимо сказал фламандцу:
– Мы будем исповедовать ту веру, которую исповедует наш монарх.
– Какой бы эта вера ни была? – изумленно осведомился Эдвард.
– Совершенно верно.
– Значит, правду говорят, что англичане ни во что не верят, – расхохотался фламандец, хлопая себя по колену.
Шокли, помрачнев, вспомнил поступок Мейсонов в церкви Святого Фомы и свое неосмотрительное признание Кэтрин. Неужели Англии снова придется сменить веру?
Перед уходом он негромко обратился к Форесту:
– Как по-твоему, король выздоровеет?
Форест ободряюще коснулся его руки:
– Займись-ка ты лучше нашим предприятием, в политику и религию нам вмешиваться незачем. Будем следовать примеру епископа Солкота. А если вдруг что случится, главное – не высовываться.
На обратном пути фламандец пребывал в прекрасном расположении духа – он, хоть и сознавал, что теперь полностью зависит от Фореста, рад был избавиться от долгов. У городских ворот он с радостным вздохом спросил у Эдварда:
– Ну, где в вашем Саруме гулящих девок искать?
Эдвард уже давно приметил, что лицо Абигайль Мейсон всегда сохраняет спокойное, бесстрастное выражение – на высоком бледном челе ни морщинки, каштановые волосы гладко зачесаны, впалые щеки и острый подбородок неподвижны, губы скорбно поджаты; вся она словно бы вычерчена на холсте уверенной рукой тюдоровского живописца. В уголках губ сквозила горечь, но карие глаза, окруженные глубокими тенями, глядели на мир уверенно, с невозмутимым спокойствием. Несколько поколений назад Абигайль постриглась бы в монахини.
Двадцативосьмилетняя Абигайль Мейсон хотела ребенка, но все было напрасно. Она не знала, почему не может понести. Особой страсти к мужу она не испытывала, однако была уверена, что дело не в этом. Неужели она бесплодна? Все Мейсоны отличались плодовитостью; в семье Роберта, двоюродного брата мужа, было шестеро здоровых ребятишек. И все же Абигайль свято верила, что в один прекрасный день родит младенца.
Она ежедневно молила Господа даровать ей дитя, с жадностью разглядывала малышей на улицах города, а при виде жены Роберта, кормящей сына, в глазах Абигайль вспыхивал завистливый огонек; за это прегрешение она себя сурово укоряла.
Отец Абигайль, переплетных дел мастер, исповедовал лютеранскую веру и всем своим детям внушал, что жизнь – юдоль страданий и мрака, а удел человеческий – смиренное терпение. Абигайль покорно терпела и истово страдала.
Питер Мейсон, ножевых дел мастер, в отличие от остальных родственников, был жилист и худощав; до странности хрупкое тело венчала тяжелая круглая голова с намечающейся лысиной. С женой он обращался ласково и нежно, с широкого лица не сходила добродушная улыбка. Жили супруги в том же доме, где некогда располагалась мастерская Бенедикта Мейсона; впрочем, колоколов там вот уже тридцать лет не отливали. Питер тоже хотел ребенка, а в остальном жизнью был вполне доволен.
Абигайль считала, что мужу не хватает упорства и целеустремленности – и в повседневной жизни, и в служении Господу. Она долго уговаривала его уничтожить поганый витраж в церкви Святого Фомы. Впрочем, Абигайль смирилась с недостатками мужа, напоминая себе, что следует довольствоваться малым, так что жили супруги в мире и согласии.
Теперь Абигайль не давало покоя только одно дело, по-прежнему остававшееся неисполненным, о чем она и напомнила мужу, вернувшись домой из церкви.
Питер неохотно кивнул, раздумывая, как бы отложить неприятное поручение до следующего дня.
Нелли Годфри ушла с постоялого двора Святого Георгия в обществе торговца из Антверпена. Ее не оставляло чувство, что с фламандцем будет сложно справиться – высокий, крепко сбитый здоровяк вина выпил много, но не захмелел. Впрочем, обращаться с мужчинами Нелли умела. Вот и сейчас она уверенно вела торговца к своему дому; он приобнял ее за плечи и привлек к себе, но Нелли со смехом отстранилась:
– Да погоди же ты!
Нелли Годфри, смешливая, бойкая и необычайно чувственная, неизменно привлекала мужчин к себе, словно бы источая плотское вожделение. Ладную фигуру облегал алый корсаж с полураспущенной шнуровкой, подчеркивавший высокую грудь под тонкой белоснежной сорочкой; из-под игривого кружевного чепца выбивались каштановые кудри; пышная юбка, присобранная на талии, чуть прикрывала точеные лодыжки, не касаясь изящных сафьяновых башмачков. С очаровательного личика не сходила ослепительная улыбка, а ярко-синие глаза лучились смехом. От тела Нелли веяло жаром и головокружительным ароматом драгоценного мускуса.
– Эта женщина создана для любви, – однажды сказал Томас Форест своему приятелю Шокли.
Нелли и самой нравилось завлекать мужчин – ее это возбуждало. Любовников притягивали не только ее искусные ласки и пышные формы; в постели она словно бы раскрывала перед ними свою беззащитную, ранимую душу. Ее нисколько не смущало, что она зарабатывает на жизнь, торгуя своим телом. К случайным любовникам она относилась с нежностью, хотя предпочитала находиться на содержании у богатых горожан. Впрочем, самым важным она считала не плату за свои услуги, а непрошеные подарки. Оставшись в одиночестве, она раскладывала безделушки на кровати и часами перебирала их, сдерживая невольные слезы:
– Этот в меня влюблен, а этому я дороже жены…
Евстахий Годфри, старый отшельник, умер в своей келье шестьдесят пять лет назад. Семейство Годфри окончательно обнищало; дед Нелли растратил последние деньги, отец был горьким пьяницей, и тринадцатилетняя Нелли с братом Пирсом остались сиротами. Пирс освоил плотницкое ремесло и помогал единственной сестре, однако теперь сторонился ее, не одобряя распутного поведения.