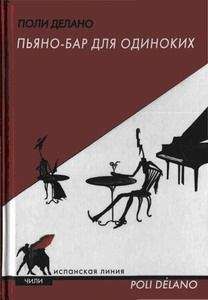– Разумеется!
– Но… Это чистки иного свойства…
– Что ж, поспешите с уборкой, и тогда мы сможем вместе хотя бы поужинать!
– Думаете, до вечера управлюсь?
– Как, и до вечера не…
– Этого нельзя знать никогда…
– Боже, вы такой чистюля?
– Нет, я – писатель!
– Знаете, я сейчас подойду к вам и помогу…
– Зачем вам?
– В этом деле женщины проворнее!
– Но… Бывает, что приходится и всю ночь…
– Я не ослышалась?
– Наверно, нет!
– Хотите сказать, что и поужинать вместе мы тоже не сможем?
– Возможно…
– Что там у вас – горы мусора?
– Пока не знаю… По утрам мне кажется, что отработал вполне чисто, а позже выясняется, что следует выгребать и выгребать…
– Кто же там так сорит?
– Сам… Кто же ещё?
– Сами?
– Такая у меня работа…
– Сорить?
– Так уж получается…
– Понимаю, вы – мазохист?
– Нет, я – писатель!
– Видимо, разница невелика?
– Видимо…
– А без изнурительных чисток вам не прожить?
– Без них – никак!
– Это ужасно!
– Мне нравится!
– Вам нравится заниматься чистками?
– Да! То есть, я пытаюсь довести свою работу до какого-то приличия…
– Даже если тратите на неё весь день и весь вечер?
– Порой и всю ночь…
– А как сегодня?
– Сегодня, думаю, всю ночь!
– Тогда приду к вам ночью!
– Но…
– Я женщина свободная… Я смогу…
– Мне, право, неловко…
– Зато, когда весь мусор выгребем, то сможем, наконец-то, вместе позавтракать! Почему вы молчите?
Я на минуту отвлёкся, раздумывая над вечной загадкой женского мышления..
– Почему вы молчите? – повторила женщина.
– Оставайтесь на месте, – прошептал я, – иду к вам!
– Когда?
– Немедленно!
– Выходит, мы сможем вместе пообедать?!
– А то что же ещё? – не понял я и, скользнув виноватым взглядом по рукописи, кажется, покраснел.
Женщина – не такая… мужчина – не такой…
Так много вздоха было в ней,
так мало – тела.
Марина Цветаева
Звонил хозяин дома для престарелых:
– Доктор Грин, завтра на работу, пожалуйста, не выходите!
– Меня увольняют? – спросил я.
– Временные меры… Повсюду бастуют, скверно с доставкой самого необходимого, неважно с пациентами, да и с…
– Доходами? – подсказал я.
– И с ними… Но всё это временно… Вы же знаете…
– Разумеется! – ответил я и опустил трубку.
Я послушал, как за окном шумел зимний ветер, а потом, когда к подоконнику опустилась тёмная наволочь неба, вдруг ощутил тоску. «Прогнать темень никогда не удавалось», – подумалось мне, и в тот же миг крупные дождевые струи суетливо забегали по стеклу окна.
Я отвернулся, взглянул на немую коробку телефона: «А что, если… Нет, пожалуй, нет…»
Зашёл в ванную комнату, решив наполнить ванну горячей водой.
«Всё временно…» – подумал я о немощных, уходящих из жизни людях, о длящихся более месяца забастовках, о звонке хозяина дома для престарелых, и снова о медицинской сестре Алисе, у которой был широкий нос и плохо причёсанные волосы.
Алиса снимала комнатку в доме напротив, а своего у неё не было ничего: ни семьи, ни постоянной работы, ни даже ванной… Как-то, стоя возле здания почты, мы немного разговорились, и она записала на клочке бумаги свой телефон. Я мысленно отметил, что у неё некрасивые руки.
Я посмотрел, как льётся из крана горячая вода, и, подумав, что у меня есть хотя бы своя ванна, вернулся к телефону.
– Привет, Алиса, это говорит доктор Грин!
– А, доктор!
– Ты чем-то занята?
– Сижу!
– Просто сидишь?
– Сижу на стуле и пытаюсь ни о чём не думать!
– И я… Я тоже пытаюсь… Тебе не холодно, Алиса?
– Терпимо! Правда, у меня небольшой насморк.
– Это ужасно! Насморк может привести к самым печальным последствиям…
– И даже?..
– И даже!..
Алиса немного помолчала, потом весело спросила:
– Доктор, как вы считаете, мой нос могут отрезать?
– Ни в коем случае!
– Но как же быть с моим насморком?
– Я уже принял меры!
– Приняли меры?
– Я приглашаю тебя к себе, в ванну!
– В ванну?
– А почему бы нет? Знаешь, когда за окном темень и дождь, то нет ничего лучше, чем…
– Но, доктор…
– Что, Алиса?
– Мне бы не хотелось, чтобы вы подумали, что…
– Что, Алиса, о чём я не должен подумать?
– Понимаете… Я женщина вовсе не такая…
– Конечно, Алиса! Ты женщина вовсе не такая… Так ведь и я мужчина вовсе не такой…
– Ладно, доктор, я подойду… Ради моего носа…
– Конечно, Алиса, подходи! Дверь я оставлю открытой…
…Алиса нагнулась, потрогала в ванной воду и, не глядя на меня, быстро разделась.
«Какая худая, – подумал я, – худая и некрасивая!»
– Вы только не подумайте, доктор… Я женщина не такая… – заговорила Алиса. – Знаете, доктор, когда жизнь столь несправедливая и когда приходится месяцами получать пособие по безработице, то иногда ты готов упрятать себя даже в ванне с водой… Знаете, доктор…
– Знаю!.. – я увидел, как от горячей воды и от пара раскраснелись её плечи, и подумал, что ничего об этой женщине не знаю и ничего знать не хочу. – В холодильнике я припрятал вино!
– Предлагаете пить вино? – спросила Алиса.
– Почему бы нет? – ответил я. – Мы сможем сидеть в ванной, наполненной горячей водой и пить холодное вино!
По лицу Алисы скользнула тень озабоченности.
– Доктор, я никогда не пила холодное вино в ванной.
– Когда жизнь такая несправедливая и когда приходится месяцами не работать, то… – я вышел на кухню, чтобы принести бутылку портвейна и два бокала.
– За что пьём? – спросила Алиса.
– Не знаю! Просто будем сидеть в горячей воде и пить холодное пиво.
Алиса пожала плечами. Она пила вино маленькими глотками, и её нос стал, кажется, ещё шире, а на её плече, чуть вздрагивая, весело перекатывались капельки воды. Наклонившись к плечу, я слизал несколько капель.
– Ты плачешь? – спросил я, заметив возле широкого носа Алисы слезинку.
– Нет, – сказала Алиса и закрыла глаза, – никогда!
Я молча взял из её руки недопитый бокал и поставил его на пол возле ванной.
– Я вам нравлюсь? – вдруг спросила Алиса.
– Не знаю, – признался я. – Над этим не думал.
– Думали! Вы знаете!..
– Что я знаю?
Алиса открыла глаза и проговорила:
– Вы знаете, что я вам не нравлюсь.
Я не ответил.
И вдруг Алиса спросила:
– Доктор, как вы считаете, сочувствием насытиться можно?
– Наверно! – сказал я. – Наверно, в какой-то мере…
– Вы так считаете?
– Да!
– И я – да! И я так считаю…
Я поднял голову. Под потолком покачивалось серое облачко пара.
– Отогрелась? – спросил я.
– Конечно! Мне, пожалуй, уходить пора… – Алиса одевалась так же торопливо, как и раздевалась.
Я подумал: «Всё, что ни скажу этой женщине, всё, что сейчас ни сделаю – всё будет походить на бессмысленный поиск цветка в поле, которое давно уж залито асфальтом».
Перед дверью Алиса резко остановилась.
– Поцелуйте меня, доктор! – сказала она.
Я поцеловал и спросил:
– Ну, как?
– Терпимо! – ответила она.
– Ты ведь не думаешь, что я…
– Нет, доктор, я не думаю, что вы…
– Так уж, Алиса!..
– Да, доктор, – Алиса коснулась дверной ручки, – так уж!..
Лихорадочно прижимаю лицо к подушке, опасаясь упустить сон о птицах, но сон вдруг исчезает, а, вместо него, возвращается боль в спине и постоянное напоминание о моей сиротливой жизни. Когда умерли родители, я этого не ощущал; ощущение сиротливости пришло позже, когда не стало моего сына. Он был замечательным парнем и чудесным сыном. Он был тридцать четыре года чудесным сыном. Когда самолёт с моим мальчиком разбился по пути в Индию, мы с женой пытались сделать такого же парня снова, но через два месяца опухоль сожрала у жены печень.
Проглатываю обезболивающую таблетку и иду на кухню, где у плиты возится мой квартирант Рон. У него сыновей нет, у него одна лишь дочь, которая живёт с мужем в Канаде. Лет сорок назад Рон учился в американском колледже и, играя в бейсбольной команде, славился тем, что был единственным белым и единственным евреем одновременно. Потом он много лет работал экономическим советником в крупной фирме по изготовлению сыров и вновь прославился, на этот раз тем, что сумел довести фирму до полного разорения.
– Привет! – говорю я Рону.
– Жри! – в ответ отвечает он и ставит передо мной тарелку с чем-то непонятным.
– Это мне? – уточняю я.
– Жри! – повторяет Рон. Всю свою жизнь он страдал недержанием: в юности – недержанием мочи, позже – спермы, а постоянно – недержанием языка. – Прожёвывать не обязательно!
– Выходит, мне подавиться?
– Если не можешь иначе…
Приподнимаю тарелку и сбрасываю её содержимое в мусорный пакет.
– Лучше выпьем! – предлагаю я.