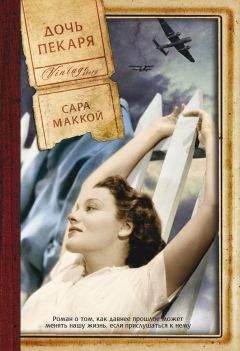Понимаю, что это изменнические разговоры, и если это письмо попадет в руки властей, то меня пошлют в лагерь с другими врагами Рейха или пристрелят на месте. Но я не могу молчать. Бремя тоски слишком тяжело. Я могу только написать тебе, что чувствую. Знаю, ты меня не выдашь.
Соседки следят каждую секунду, поэтому отдаю письмо Овидии. Надеюсь, оно дойдет. Когда прочитаешь, пожалуйста, порви его и сожги в папиной печке. Не для моей безопасности, а для вашей.
Люблю тебя.
Гейзель
Программа Лебенсборн
Штайнхеринг, Германия
8 января 1945 года
Элси, мою злобу и отчаяние не искупит никакая надежда. Я живу с демонами, а значит, я уже в аду. Моя соседка Ката недавно родила Программе здорового сына, и ей разрешили его кормить. В палате для новорожденных она видела мою дочь, пухленькую и беленькую, как ангелочек, и подслушала разговор нянек, обсуждавших Фридхельма. Одна сказала, что доктор Эбнер разочарован Фридхельмом, который не получился, невзирая на таблетки по улучшению фертильности и режим пренатальной витаминизации. Нянечка сказала, если у мамы есть скрытый дефект, он обязательно передастся хотя бы одному отпрыску, а то и всем. Так что, сказала Ката, мою дочь тестируют – хотят проверить на мутации и отклонения. Невообразимо! Что касается мальчика, то Бригитта сказала, будто группенфюрер, напившись вина, признался ей в постели, что всех неподходящих младенцев Программы отравили и сожгли, а пепел зарыли в одной яме с трупами евреев из лагерей. О, Элси! Если это правда, все они будут гореть в аду, и я вместе с ними. Хоть бы скорее пришли американцы и русские. Пусть приходят, и надеюсь, что мы все сгорим дотла за содеянное. Мне нет больше покоя. Сейчас почти рассвет, пора отдать письмо Овидии, пока не открылся рынок. Я очень тебя люблю, больше всех, Элси. Что бы ни случилось, помни об этом.
Гейзель
Пекарня Шмидта
Гармиш, Германия
Людвигштрассе, 56
12 января 1945 года
Милая Гейзель,
Последнее письмо от тебя – 27 декабря. Я спросила почтмейстера Хофленера, ходят ли письма, раз на севере бои. Он уверил меня, что да, почтовая служба Рейха работает по высочайшим стандартам немецкой эффективности, разве что чуть снизив пунктуальность. В доказательство отдал мне письмо папе от герра Майера. Я сказала, что одна ласточка весны не делает. Герр Майер живет в Партенкирхене. Мне на велосипеде туда и обратно быстрее, чем это письмо добралось до почтамта Гармиша.
Очень беспокоюсь. Каждую ночь ты снишься мне, и я просыпаюсь. Мама говорит, если что-то не дает покоя, это знак. Но что за знак – не объясняет. Стараюсь ничего тревожного ей не рассказывать. Ее легко расстроить, и она не понимает, в какое время мы живем. Мир сейчас не тот, что в дни ее молодости. Поэтому я держу свои мысли и страшные сны при себе. Я только с тобой могу поговорить, Гейзель. Понимаю, в письмах надо быть осторожными. Может, раньше я что-нибудь лишнее написала. Надеюсь, причина твоего молчания не в том, что эти письма попали в недобрые руки! Я не думала, что подвергаю тебя опасности, – думала только о себе, хотелось так много тебе рассказать. Пожалуйста, прости меня, считай это все легкомысленными каракулями глупой девчонки. Мне семнадцать лет, а как будто сто – как такое возможно?
Помнишь, мама рассказывала, как у фрау Грюнвальд волосы враз поседели – были рыжие, как земляника, стали белые, как снег, – когда трех ее сыновей французы повесили в конюшне в конце первой войны? И до сих пор старенькая мама герра Грюнвальда как будто моложе его жены. Жуткая трагедия. Но теперь я, кажется, понимаю. Меня придавила эта война. Я вижу это бремя на лицах мамы и папы. Мы все слишком быстро старимся. Я с трудом нас узнаю. Иногда забываю твое лицо и так пугаюсь, что беру твою фотографию и таращусь, пока не запомню хорошенько.
Как бы я хотела, чтобы ты была дома, Гейзель. Я скучаю по тебе, сестра. Хоть бы ты была здесь. Хоть бы, хоть бы. Молюсь за твое здоровье и безопасность, за здоровье и безопасность твоих детей.
Хайль Гитлер.
Твоя любящая сестра Элси
Программа Лебенсборн
Штайнхеринг, Германия
13 января 1945 года
Элси, обещай, что позаботишься о Юлиусе. Только он и остался от счастливой жизни, о которой я мечтала. Я знаю что делаю, здесь жить я больше не могу. Элси, я надеюсь, ты поймешь, почему я так поступила. Я люблю своих детей, всех. Но они не заслужили такой матери, я не смогла любить их как надо. Верю, что Бог есть и Он простит. Постарайся объяснить маме с папой. Люблю вас, буду скучать по тебе, милая сестра, сильней всего.
Вечно ваша
Гейзель
Пекарня Шмидта
Гармиш, Германия
Людвигштрассе, 56
19 января 1945 года
Когда поздним утром в пекарню вошел Йозеф, Элси чуть не уронила поднос со сладкими медовыми коврижками. Йозеф на три недели уезжал из Гармиша по делам. Элси видела его впервые с сочельника. Одно дело – стать невестой, чтобы спасти семью от гестапо, другое – выйти замуж за человека, которого не любишь. Она носила кольцо, хотя и стыдилась его блеска. Сказать наконец правду, иначе придется лгать всю жизнь. Но семья в безопасности, только пока Йозеф рядом. В комнате спрятан Тобиас, и признаваться, что она чувствует на самом деле, опасно. – Ты вернулся! – сказала она.
– Только вчера вечером, – кивнул он и поцеловал ей руку.
– Папа, Йозеф пришел, – крикнула Элси через плечо, сняла с головы платок и пригладила волосы. – Рада тебя видеть, Йозеф, но что так рано? – Прежде он никогда не приходил раньше полудня.
– Твой отец утром прислал телеграмму. – Лицо напряженное.
У Элси вспотели ладони. Телеграмма – это серьезно. То, что Элси про нее не сказали, – еще серьезней.
Йозеф взглянул на рубины у нее на пальце. Она нервно усмехнулась. Его не было три недели, и Элси не понимала, как теперь себя вести.
Они узнали про Тобиаса, мелькнула мысль; а может, Йозеф этими «делами» и занимался в отъезде. Могли Тобиаса увидеть через окно спальни? Он такой маленький, а она всегда запирала дверь и тщательно задвигала шторы, оставалась только маленькая щелка наверху. Лишь птицы да облака могли заглянуть в комнату. Может, самолеты люфтваффе летали над домом и следили… она слышала, что есть способы. Днем родители наверх не заходили, а Тобиаса она предупредила, что надо молчать как привидение, иначе его обнаружат и убьют. Фантазии множились, пульс ускорялся.
– Папа? – позвала она. Хотя температура давно упала, щеки горели.
Папа вышел, насухо вытирая руки.
– Йозеф, зятек, рад тебя видеть. Быстро пришел. – Он похлопал Йозефа по спине. Отец тоже был хмур.
Элси ругала себя: так рисковать семьей. Конечно, она за это ответит. Голова шла кругом.
Они уселись в дальнем углу. Папа взял Элси под локоток и прошептал:
– Не хочу пока, чтобы мама узнала.
Элси неловко устроилась на деревянном стуле и взялась за край столика, чтобы не дрожали руки. Йозеф сел поближе к ней. Еще раз оглянувшись через плечо, папа вынул письмо из кармана передника.
Невысказанная тревога раскачивала комнату, как палубу корабля. Элси пришло на ум, что гестапо могло перехватить ее письма к Гейзель и ту обвиняют за ее, Элси, опрометчивые слова. Она пыталась вспомнить, что писала, и не могла. Мысли прыгали туда-сюда, от писем к комнате, от комнаты к кольцу с надписью на иврите, от кольца к рукаву мундира подле ее локтя.
Что бы там ни было, она возьмет вину на себя. Скажет, что родители не знали ни о письмах, ни о Тобиасе. Виновата она одна.
Мама просунула голову в дверь:
– Макс, мне поставить ржаной хлеб? – Руки были в тесте, и она держала их на весу.
– Да-да, ржаной, конечно, поставь. – Он подождал, пока она скроется в кухне, и развернул письмо. Элси узнала почерк Гейзель.
– Получил вчера – слава богу, попало ко мне, а не к Луане. – Он припечатал письмо ладонями, будто хотел раскатать его в тонкую лепешку. – Гейзель в беде. Она… не совсем в своем уме. – Пальцы, перепачканные специями, темнели на белой бумаге. – Гейзель – верная дочь Рейха, несмотря на все, что она здесь пишет. Пожалуйста, Йозеф, скажи, я могу рассчитывать, что все останется между нами? – Он судорожно вздохнул и продолжил поспешно: – Она одна из лучших девушек Германии. Сейчас ей нелегко. Нам надо бы съездить в Штайнхёринг, привести ее в чувство.
И лишь затем он дал им прочесть письмо.
У Элси засосало под ложечкой. Отец прав. Гейзель в большой опасности. Сестра никогда в жизни не говорила с таким отчаянием и злобой, так не ругала власть. Если бы письмо попало в руки гестапо, Гейзель арестовали бы или сделали что похуже. И что там с младенцем? Неужели у нее правда могут отнять родного сына?