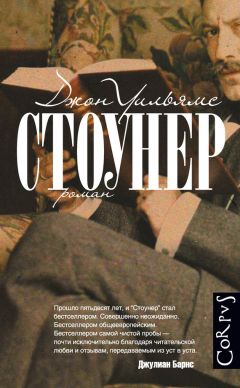Но у него была Грейс. Она и теперь подолгу сидела в его кабинете, привыкнув к этому за время длительной отлучки Эдит; Стоунер даже раздобыл для дочери маленький письменный столик и стульчик, так что ей теперь было в этой комнате где читать и готовить уроки. Они и ели чаще всего вдвоем: Эдит много времени проводила вне дома, а когда была на месте, к ней часто приходили ее театральные знакомые, и эти маленькие вечеринки присутствия ребенка не предполагали.
И вдруг все резко переменилось: Эдит опять стала домашним существом. Они снова теперь садились за стол в полном составе, и Эдит даже начала чуть больше заниматься хозяйством. В доме сделалось тихо; даже пианино не звучало, и на клавиатуре собиралась пыль.
С некоторых пор они, когда были вместе, старались поменьше говорить о себе или друг о друге, чтобы не нарушить хрупкое равновесие совместной жизни. Поэтому Стоунер только после долгих колебаний и размышлений о возможных последствиях спросил ее, не случилось ли что-нибудь.
Они сидели за столом после ужина; Грейс уже поела и пошла с книжкой в кабинет Стоунера.
– Ты о чем, не понимаю? – спросила Эдит.
– Твои друзья, – сказал Уильям. – Их довольно давно уже не было, и ты, кажется, теперь не так сильно увлечена театральными делами. Мне просто захотелось узнать: может быть, что-то случилось?
Почти мужским движением Эдит вытряхнула из пачки, лежавшей около ее тарелки, сигарету, взяла в рот и зажгла от предыдущей, выкуренной наполовину. Глубоко затянулась и, не вынимая сигареты изо рта, откинула голову немного назад; взгляд ее прищуренных глаз был расчетливым и немного насмешливым.
– Ничего не случилось, – ответила она. – Просто мне надоели и они, и театральные дела. Разве что-то обязательно должно случиться?
– Нет, – сказал Уильям. – Я просто подумал: может быть, ты нездорова, или еще что-нибудь.
Вскоре он, думая уже о другом, поднялся из-за стола и отправился в кабинет, где, погруженная в чтение, сидела за своим столиком Грейс. Ее волосы сияли под светом настольной лампы, придававшим серьезному личику четкие очертания. Она выросла за год, подумал Уильям; и горло на секунду сжала печаль, несильная, в чем-то даже приятная. Он улыбнулся и тихо прошел к своему столу.
Минуту спустя он уже с головой окунулся в работу. Все текущие учебные дела были сделаны накануне вечером: студенческие работы проверены, оценки выставлены, и он подготовился к занятиям на все дни до конца недели. Он предвкушал сегодняшний вечер и еще несколько вечеров, когда сможет, не отвлекаясь, работать над книгой. Чего он хочет от новой книги, он пока точно не знал; в общих чертах – он намеревался расширить первое свое исследование как по времени, так и по охвату материала. Он хотел взять период английского Ренессанса и распространить на него свои изыскания, касающиеся влияний со стороны античной и средневековой латинской литературы. Он был еще на этапе планирования, и этот этап доставлял ему наибольшее удовольствие: можно было выбирать между разными подходами, принимать или отвергать стратегии, взвешивать последствия выбора, вглядываться в неопределенности и тайны, которыми чреваты неисследованные возможности… Возможности, которые он видел, так радовали его, что он не мог усидеть на месте. Он встал из-за стола, немного походил и в приливе радости, которой не мог дать полную волю, заговорил с дочерью; она подняла глаза от книги и ответила ему.
Она почувствовала его настроение, и что-то сказанное им рассмешило ее. И вот они уже оба смеются, самозабвенно, словно он стал ее сверстником. Вдруг дверь открылась, и в полутемный кабинет устремился резкий свет из гостиной. На фоне светлого прямоугольника стояла Эдит.
– Грейс, – произнесла она медленно и отчетливо, – твой отец пытается работать. Тебе не следует ему мешать.
Уильям и его дочь были до того ошеломлены этим внезапным вторжением, что безмолвно замерли. Чуть погодя Уильям обрел дар речи:
– Все в порядке, Эдит. Она мне не мешает. Но Эдит точно не слышала:
– Грейс, я что тебе сказала! Выйди сюда немедленно. Ошарашенная Грейс встала со стула и двинулась к двери. Посреди кабинета приостановилась и посмотрела сначала на отца, потом на мать. Эдит вновь заговорила было, но Уильям ее перебил.
– Все в порядке, Грейс, – промолвил он так мягко, как только мог. – Все хорошо. Иди к маме.
Когда Грейс вышла в гостиную, Эдит сказала мужу:
– Ребенок был абсолютно предоставлен самому себе. Она слишком тихая, вся какая-то отрешенная, – это ненормально. Она чересчур много времени проводила одна. Ей надо быть активнее, играть с детьми своего возраста. Ты, похоже, не понимаешь, до чего она была несчастна.
И она захлопнула дверь, не дожидаясь ответа.
Он долго стоял не двигаясь. Потом посмотрел на свой письменный стол, заваленный бумагами и открытыми книгами; медленно подошел к столу и стал бесцельно перекладывать книги и записи. Потом, хмурясь, еще с минуту помедлил, точно пытался что-то припомнить. После этого повернулся, подошел к столику Грейс и постоял около него, как стоял у своего стола. Погасил дочкину лампу, так что поверхность стола сделалась серой и безжизненной; потом подошел к кушетке, лег на спину и долго лежал с открытыми глазами, глядя в потолок.
Громада надвигалась на него постепенно, и поэтому отдавать себе полный отчет в том, что делает Эдит, он начал только через несколько недель; и когда он наконец все понял, он почти не испытал удивления. Эдит вела свою кампанию так умно, так умело, что повода для внятного, обоснованного протеста он найти не мог. После того внезапного и грубого вторжения в его кабинет, рассчитанного – он видел это теперь – на то, чтобы застать его врасплох, тактика Эдит стала не столь прямолинейной, стала более тихой и завуалированной. Против этой тактики военных действий, замаскированных под любовь и заботу, он был бессилен.
Эдит теперь почти все время проводила дома. Утром и днем, пока Грейс была в школе, она обустраивала ее спальню. Эдит переместила туда из кабинета Стоунера ее маленький письменный стол, отполировала его заново, покрасила в светло-розовый цвет и обтянула столешницу по краям широкой сборчатой атласной лентой того же оттенка, так что от прежнего стола, привычного Грейс, не осталось ничего; однажды – Грейс немо стояла рядом – она перебрала всю одежду, которую Уильям купил дочери, большую часть отвергла и пообещала Грейс, что в ближайший выходной они отправятся по магазинам и заменят отвергнутое чем-то “более подходящим для девочки”. Так и произошло. Под вечер выходного дня, усталая, но торжествующая, Эдит вернулась с изрядным числом пакетов и с измученной дочкой; Грейс было донельзя неловко в новом, жестком от крахмала и с миллионом складочек и оборочек платье, из-под пузырящегося подола которого жалкими спичками торчали ее тонкие ноги.
Эдит покупала дочери кукол и игрушки и стояла над ней, пока та играла, как будто игра была обязанностью; она начала учить ее на пианино и сидела рядом на скамеечке, когда Грейс упражнялась; по любому поводу Эдит устраивала маленькие детские вечеринки, приглашая соседских мальчиков и девочек, которые приходили мрачные, злые из-за неудобной праздничной одежды; она строго следила за чтением Грейс и приготовлением уроков, запрещая ей заниматься сверх отпущенного времени.
Теперь повседневными гостями Эдит были матери, жившие по соседству. Они приходили по утрам, пока дети были в школе, пить кофе и беседовать; во второй половине дня они приводили детей с собой, поглядывали, как те играют вместе в большой гостиной, и болтали о том о сем поверх шума и беготни.
Стоунер в это время обычно сидел у себя в кабинете, и многое, что громко на фоне детских голосов говорили матери, было ему слышно.
Однажды, когда шум ненадолго утих, до него долетели слова Эдит:
– Бедная Грейс. Она так любит отца, а у него для нее совсем нет времени. Работа, работа… И он ведь начал новую книгу.
Опустив с каким-то отрешенным любопытством взгляд на свои руки, державшие книгу, он увидел, что они дрожат. Секунда шла за секундой, а дрожь не прекращалась, пока наконец он не унял ее, засунув руки глубоко в карманы, сжав там в кулаки и не вынимая.
Он теперь почти не общался с дочкой. Ели они втроем, но он редко отваживался обращаться к ней за столом: если он с ней заговаривал и Грейс отвечала, Эдит вскоре находила какой-нибудь изъян в застольных манерах Грейс или в том, как она сидит, и делала ей такое резкое замечание, что до конца еды девочка пришибленно молчала.
И без того худощавое тельце Грейс делалось еще тоньше; Эдит мягко посмеивалась над тем, что она “растет в стебель”. Взгляд девочки часто был напряженно-внимательным, почти настороженным; былое выражение тихой безмятежности сменилось, на одном полюсе, легким налетом хмурости, на другом – буйной веселостью на грани истерики; улыбалась она теперь мало, зато хохотала то и дело. А когда все-таки улыбалась, это выглядело так, будто на лице промелькнул призрак улыбки. Однажды, когда Эдит была наверху, Уильям случайно сошелся с дочкой в гостиной. Грейс застенчиво улыбнулась ему, и в невольном порыве он опустился на колени и обнял ее. Он почувствовал, как ее тело напряглось, и увидел, что лицо стало смущенным и испуганным. Мягко отпустив ее, он встал, сказал что-то малозначащее и ушел в свой кабинет.