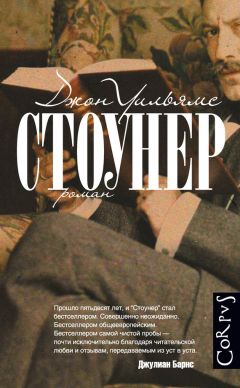Стоунер как раз смотрел на этот список и думал, какую кому дать тему для самостоятельного исследования; решить было непросто, потому что далеко не всех он знал. Дело было сентябрьским днем, он сидел у открытого окна; солнце светило с тыла, из-за фасада огромного здания, и тень на зеленой лужайке перед корпусом в точности повторяла его очертания, включая полусферический купол; ломаная линия крыши, уходя по зелени вдаль, растворялась в пространстве за пределами кампуса. В прохладном воздухе, веявшем сквозь окно, чувствовался бодрящий запах осени.
Раздался стук; он повернул голову к открытой двери и сказал: “Входите”.
Из сумрачного коридора в светлую комнату, шаркая, вошел человек. Стоунер моргнул, точно со сна, увидев учащегося, с которым он встречался в коридорах, но знаком не был. Плохо гнущаяся левая рука посетителя расслабленно висела, левую ногу он подволакивал. Лицо бледное, круглое, стекла роговых очков тоже круглые, черные жидкие волосы, разделенные аккуратным боковым пробором, гладко лежали на круглом черепе.
– Доктор Стоунер? – спросил вошедший; голос у него был пронзительный, и говорил он отчетливо, не растягивая гласных.
– Да, – ответил Стоунер. – Садитесь, пожалуйста. Молодой человек опустился на деревянный стул, стоявший подле стола Стоунера; вытянув распрямленную ногу, он положил на нее левую кисть, которая постоянно была полусжата в кулак. Он улыбнулся, тряхнул головой и промолвил странноватым самоуничижительным тоном:
– Вы меня не знаете, сэр; меня зовут Чарльз Уокер. Я аспирант второго года обучения, ассистирую доктору Ломаксу.
– Понимаю, мистер Уокер, – сказал Стоунер. – Чем могу быть полезен?
– Я пришел к вам, сэр, чтобы попросить об одолжении. – Уокер снова улыбнулся. – Я знаю, что на вашем семинаре свободных мест нет, но я очень хочу в нем участвовать. – Он сделал паузу и со значением произнес: – Мне доктор Ломакс предложил поговорить с вами.
– Ясно, – сказал Стоунер. – Какая у вас специализация, мистер Уокер?
– Поэты-романтики, – ответил Уокер. – Научный руководитель диссертации – доктор Ломакс.
Стоунер кивнул.
– Как далеко вы продвинулись в работе над диссертацией?
– Надеюсь завершить через два года, – сказал Уокер.
– Тогда есть простой выход, – заметил Стоунер. – Я веду этот семинар каждый год. Сейчас на него действительно записалось так много народу, что это почти уже и не семинар, а добавится еще один человек – будет совсем уж бог знает что. Приходите на следующий год, если вас и правда интересует эта тема.
Уокер отвел глаза.
– Откровенно говоря, – сказал он, одаряя Стоунера новой улыбкой, – я пал жертвой недоразумения. Исключительно по своей вине, конечно. Я не принял во внимание, что аспирант, чтобы получить степень, должен прослушать как минимум четыре аспирантских семинара, и в прошлом году не ходил ни на один. В каждом семестре, как вы знаете, разрешают записаться только на один семинар. Поэтому, чтобы через два года стать доктором философии, мне нужен семинар в этом семестре.
Стоунер вздохнул:
– Понимаю. Значит, какого-то особого интереса к влиянию латинской традиции вы не испытываете?
– Испытываю, сэр, очень даже испытываю. Семинар будет весьма полезен для моей диссертации.
– Мистер Уокер, вам следует знать, что это весьма специализированные занятия и я не поощряю участия тех, кого их тематика мало интересует.
– Я знаю, сэр, – сказал Уокер. – Заверяю вас, она меня чрезвычайно интересует.
Стоунер кивнул.
– Как у вас с латынью?
Уокер опять тряхнул головой:
– Прекрасно, сэр. Экзамена я еще не сдавал, но читаю очень хорошо.
– Французский, немецкий изучаете?
– О да, сэр. По ним я тоже пока не экзаменовался; я думал сдать все одним махом в конце этого года. Но я уже очень хорошо читаю и на том, и на другом. – Помолчав, Уокер добавил: – Доктор Ломакс сказал, что он уверен в моей способности работать на семинаре.
– Хорошо, – со вздохом сказал Стоунер. – Придется много читать на латыни; на французском и немецком гораздо меньше, можно даже и вовсе без них обойтись. Я дам вам список чтения, и в следующую среду мы обсудим вашу тему для моего семинара.
Уокер рассыпался в благодарностях и не без труда встал со стула.
– Начну читать не откладывая, – сказал он. – Я уверен, сэр, вы не пожалеете, что приняли меня в свой семинар.
Стоунер взглянул на него с легким удивлением.
– Мне такое и в голову не приходило, мистер Уокер, – промолвил он сухо. – Увидимся в среду.
Семинар проходил в небольшом подвальном помещении в южном крыле Джесси-Холла. От цементных стен шел сырой, но чем-то даже приятный запах, подошвы глухо шаркали по голому цементному же полу. С потолка посреди комнаты свисала единственная лампа, и светила она вниз, поэтому тех, кто сидел за центральными столами, заливало сияние, тогда как стены были серые, тусклые, в углах почти черные: гладкий некрашеный цемент, казалось, всасывал в себя потолочный свет.
В ту вторую семинарскую среду Уильям Стоунер на несколько минут опоздал; он произнес какие-то вступительные слова и стал раскладывать свои книги и бумаги на небольшом приземистом столе из мореного дуба, стоявшем перед доской. Потом оглядел небольшую группу участников семинара. С некоторыми он был неплохо знаком. Двое работали над докторскими диссертациями под его руководством; еще четверо учились на кафедре в магистратуре, а до этого студентами слушали его курсы; из остальных трое специализировались по современной литературе, один писал диссертацию по философии о схоластах, одна женщина за сорок, школьная учительница, пыталась получить диплом магистра гуманитарных наук во время творческого отпуска, и, наконец, присутствовала темноволосая молодая женщина, которая недавно устроилась на два года преподавательницей на их кафедру, чтобы за это время расширить до диссертации курсовую работу, написанную в одном из университетов на востоке страны. Она попросила у Стоунера разрешения ходить на семинар вольнослушательницей, и он ей позволил. Чарльза Уокера в аудитории не было. Стоунер еще немного помедлил, перекладывая бумаги, потом откашлялся и начал:
– На нашем первом занятии мы обсудили круг тем, которые будем затрагивать на этом семинаре, и ре шили, что ограничим изучение средневековой латинской традиции первыми тремя из семи так называемых свободных искусств, а именно грамматикой, риторикой и диалектикой.
Он сделал паузу и оглядел лица слушателей – у кого-то неуверенное, у кого-то любопытное, у кого-то маска, а не лицо, – убеждаясь, что все уделяют ему и его словам должное внимание.
– Такое ограничение может некоторым из вас по казаться неразумным и педантичным; но у меня нет сомнений, что мы найдем, чем заниматься, даже если попробуем лишь поверхностно проследить судьбу этой тройки – средневекового тривиума – вплоть до шестнадцатого века. Важно понимать, что смысл, который риторика, грамматика и диалектика имели для людей Позднего Средневековья и Раннего Ренессанса, мы сегодня можем лишь очень смутно ощущать, если не прибегаем к помощи исторического воображения. Грамматика, к примеру, для ученого тех времен была не просто механическим расположением частей речи. Начиная с эпохи позднего эллинизма и на протяжении всех Средних веков изучение грамматики и ее практическое использование включали в себя не только “владение буквами”, о котором говорят Платон и Аристотель, они включали в себя – и это стало очень важным – изучение поэзии на ее технически наиболее удачных образцах, истолкование поэтических произведений с точки зрения формы и со держания, а также вопросы стиля – в той мере, в ка кой их можно отграничить от риторики.
Он чувствовал, что тема его увлекает, и видел, что некоторые из слушателей подались вперед и перестали вести записи. Он продолжил:
– Более того, если нас, людей двадцатого века, спросить, какое из этих трех “искусств” самое важное, мы, скорее всего, назовем диалектику или риторику – весьма маловероятно, что грамматику. Но древнеримский или средневековый филолог – или поэт – почти наверняка поставил бы грамматику на первое место. Нам следует иметь в виду…
Его прервал громкий шум. Дверь комнаты открылась, и вошел Чарльз Уокер; когда он закрывал дверь, книги, которые он держал под мышкой увечной руки, выскользнули и упали на пол. Он неуклюже нагнулся, вытянув назад плохо действующую ногу, и медленно собрал книги и бумаги. Потом выпрямился и с режущим слух шарканьем двинулся дальше, шурша подошвой по голому цементному полу гулкой аудитории. Нашел свободный стул в первом ряду и сел.
Когда Уокер уселся и разложил на столе свои бумаги и книги, Стоунер продолжил:
– Нам следует иметь в виду, что в Средние века понимание грамматики было еще более широким, чем во времена позднего эллинизма и в Древнем Риме. Она включала в себя не только правила устной и письменной речи и искусство истолкования, но и концепции той эпохи, касающиеся аналогии, этимологии, методики подачи материала, композиции, границ поэтической вольности, возможностей выхода за эти границы – и даже метафорического языка, основанного на фигурах речи.