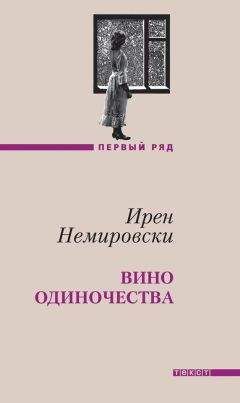До Парижа мы ехали шесть часов. Понемногу дыхание Петрониллы пришло в норму, лицо порозовело. Санитары «скорой» показались мне профессиональными, компетентными и надежными. Когда мы добрались до Двадцатого округа, они спросили, куда везти Петрониллу – в больницу или домой. Та уверила их, что в собственной квартире ей будет лучше.
Я помогла ей поднять вещи на шестой этаж без лифта. Оказавшись дома, она воскликнула:
– Больше никакого зимнего спорта!
– Это упадство?
Она проигнорировала мой вопрос и заявила:
– Давай никому не скажем, что мы вернулись? Мне интересно: как это, когда под самый Новый год никто не знает, что ты в Панаме.[30]
– Но я-то знаю, что ты здесь.
– Да. Ты имеешь право обо мне заботиться.
Похоже, она всерьез считала это большой привилегией. Поскольку она только что пережила серьезный приступ астмы, я решила, что с ней следует обращаться осторожно. Мы совершали медленные прогулки по парку Версаля, скверу Багатель и Люксембургскому саду. В кафе-кондитерской я угощала ее горячим шоколадом и пирожными с каштанами и взбитыми сливками. Мои заботы удостоились ее благодарности.
– Знаешь, а тебя взяли бы в службу опеки над пенсионерами.
– Да уж, от благодарности ты не умрешь.
31 декабря я тщетно обзванивала рестораны, ни в одном не осталось мест. Я предложила новогодний вечер с шампанским и яйцами всмятку у меня или у нее дома. Похоже, это ее не воодушевило, и она предложила:
– А что, если поехать к моим предкам?
– Ты это серьезно?
– А что, не хочешь?
– Хочу, но это как-то неудобно.
Она пожала плечами и позвонила родителям.
– Порядок, – объявила она. – Если только тебя не смутит присутствие членов ячейки.
– Какой ячейки?
– Коммунистической ячейки Антони.
Такая экзотика еще больше усилила мое желание поехать туда. Ближе к вечеру мы с Петрониллой оказались в электричке линии В. На конечной станции мы сели в автобус, которой повез нас по чистенькому унылому пригороду. Семейство Фанто обитало в небольшом домике, который собственными руками построил дед полвека назад. Вполне заурядный и уютный.
Пьер Фанто, высокий симпатичный мужчина лет пятидесяти, представил мне активистов ячейки: коммунист Доминик и некая дама по имени Мари-Роз – престарелая сталинская болонка, непреклонная и зловещая. Франсуаза Фанто, женщина с тонкими, красивыми чертами лица, прислуживала этому собранию скромно и застенчиво, что, похоже, удивляло меня одну.
О чем бы ни заходила речь, все старались прежде всего заручиться поддержкой этой Мари-Роз. Не знаю, может, ее авторитет и впрямь был непререкаем, но то, что она говорила, несомненно, являлось здесь истиной в последней инстанции. Так, когда Доминик неосторожно заметил, что дела в Северной Корее, похоже, идут не очень, она резко оборвала его:
– Они гораздо лучше, чем в Южной Корее, вот что главное.
Пьер заговорил о недавней поездке в Берлин, выразив обеспокоенность повышением цен. Мари-Роз даже не дала ему закончить фразу.
– Все немцы из Восточной Германии сожалеют об утраченном счастье! – отрезала она.
– Хорошо, что у нас еще осталась Куба! – отозвался Пьер.
Я хранила молчание и наблюдала за Петрониллой, она явно привыкла к подобным разговорам и никак на них не реагировала, объедаясь копченой колбасой. Отец поставил музыку. Поскольку мое невежество в области французской эстрады трудно себе вообразить, я простодушно поинтересовалась, кого это мы сейчас слушаем.
– Это же Жан Ферра! – возмущенно ответила Мари-Роз.
Пьер откупорил бутылку превосходного белого бордо – наконец-то у нас обнаружились общие ценности. Вино несколько разрядило атмосферу.
– Что будем есть? – поинтересовалась Петронилла.
– Я приготовил говядину, тушенную с морковью, – ответил отец.
– Ах, это тушеная говядина Пьера, – пришел в восторг Доминик.
Это классическое блюдо французской кухни, неизвестное в Бельгии, я попробовала с большим любопытством.
– Ты никогда не ела говядину, тушенную с морковью? – удивился Пьер.
– И откуда же вы? – спросила меня Мари-Роз.
– Из Бельгии, – осторожно ответила я, подозревая, что любая другая информация возбудит недоверие.
Затем все с большим воодушевлением заговорили о французской политике. 2002-й был ужасным годом, и следующий, 2003-й, не предвещал ничего хорошего. Они принялись комментировать различные социальные преобразования, которые возмущали их в высшей степени. Каждый раз Пьер раздраженно восклицал:
– Это все Митт’ран!
Собравшиеся горячо и пылко поддерживали его.
Приближалась полночь, а тема разговоров не менялась. Франсуаза принесла роскошную шарлотку собственного приготовления. Я съела довольно внушительный кусок.
– У бельгийцев хороший аппетит, – одобрила коммунистическая ячейка.
Я не стала отрицать. Когда часы пробили двенадцать, мы выпили шампанское «Барон Фуэнте».
– Единственный аристократ, которого вы встретите в моем доме, – сказал Пьер.
Держался он прекрасно. Ко всем бесчисленным достоинствам шампанское обладает еще одним даром – утешает меня. И даже когда я сама не знаю, зачем меня нужно утешать, оно, шампанское, знает.
Около двух часов ночи я рухнула на старый диванчик на чердаке и мгновенно уснула.
Через несколько часов мы с Петрониллой сели на поезд до Парижа.
– Ну как, не слишком травмирована? – спросила меня она.
– Нет. А что?
– Ну, эти заявления ячейки…
– Реальность превзошла самые смелые ожидания.
Она вздохнула:
– Мне стыдно за отца.
– Это ты зря. Он очень милый и симпатичный.
– Ты слышала, что он несет?
– Какая разница? Совершенно безобидный вздор.
– Он не всегда был безобидным.
– Теперь это вполне невинно.
– Он лишь повторяет то, что говорил его собственный отец.
– Вот видишь, это же просто сыновья преданность. Реальности для него не существует.
– Вот именно. В общем, я ужасно страдала. Как тебе такое: раз собственность – это зло, он никогда не запирал двери на ключ. Ты не представляешь, сколько раз нас обкрадывали. Я так психовала.
– Понимаю. А твоя мать думает так же, как и он?
– Кто ее знает? Она умная, но какая-то робкая. У нее есть членский билет компартии, но думаю, что на выборах, в кабинке, она голосует за социалистов.
– Она боится отца? Вид у него не слишком грозный.
– Она не хочет его огорчать. Но она совсем не такая, как он. Мама больше всего на свете любит оперу. Это она выбрала мне такое имя.
– А твоя невероятная литературная образованность – откуда это?
– Это моя собственная заслуга. Отец читает только «Юманите» или книги о Первой мировой войне, это его страсть. А мама исключительно любовные романы.
– Понятно. Ты чувствовала себя ужасно одинокой!
– Ты даже не представляешь!
Из окна поезда я рассматривала ландшафт со скромными постройками. Справедливости ради надо сказать, что есть пейзажи куда более унылые, чем этот, – с домиками, иногда довольно старинными, мирными улочками и ухоженными палисадниками. Почему же именно эта панорама вызвала у меня такое острое желание покончить с собой?
Мне вдруг показалось, что в окне одного домика словно промелькнуло отрочество Петрониллы: страдания девочки, по иронии судьбы наделенной аристократическими вкусами, преданной идеалам крайне левых, но чувствующей отвращение к пролетарской эстетике, всем этим уродливым идеологическим побрякушкам, чтению всяких глупостей.
Я посмотрела на Петрониллу новыми глазами. Она была куда лучше, чем просто образованная девушка. Ее наружность хулиганистого мальчишки со жгучими глазами, подвижная мускулистая фигурка беглого арестанта – и это удивительно нежное лицо, роднившее ее с Кристофером Марло. Она, как и он, могла бы руководствоваться в жизни девизом: «Что меня питает, меня же разрушает». Великая литература, основной источник ее питания, одновременно и отдаляла девушку от людей ее круга, углубляя между ними пропасть, причем пропасть непреодолимую, потому что ее клан даже не понимал этого.
Родители любили ее и в то же время побаивались. Франсуаза с ее нежной, восприимчивой душой восхищалась романами дочери и даже иногда проникалась их содержанием. Пьер не понимал в них ничего и не видел, чем же эта проза отличается от прозы судового журнала.
Петронилла вызывала у меня восторг и восхищение, и я сказала ей об этом.
– Спасибо, птичка, – ответила та.
Она, хотя я и не говорила ей об этом, сама определила, что я принадлежу к племени пернатых. Инстинкт не обманул ее: с одиннадцатилетнего возраста крылатое племя неотступно преследовало мои мысли. Я так много наблюдала за птицами, что, должно быть, подхватила от них что-то, словно вирус. Что именно? Вряд ли я смогла бы это сформулировать словами.
Мне могут возразить, что одиннадцать лет – это поздно. Да, но еще раньше, сколько я себя помню, я была одержима загадкой яйца, и до сих пор она не дает мне покоя. Нельзя отрицать, что у этих двух моих «одержимостей» существует взаимосвязь. Одиннадцать лет – столько длилось высиживание яйца. А в одиннадцать я стала птицей. Какой? Трудно сказать точно. Странный гибрид полярной крачки, баклана, ласточки и кулика, а еще во мне уживались разные виды сарычей. А мои книги – это кладки яиц.