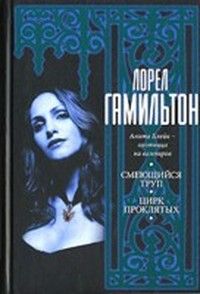Так вот, я всю жизнь буду чувствовать себя кем-то вроде этих глупых ребятишек до того, как мы на них налетели. Но они и не думали, что случится то, что случилось, прямо как начальник колонии, который втирает нам про честность и прочую ерунду, не зная ничего об этом. А я вот я каждую секунду знаю, что кованый сапог в любую минуту может растоптать маленький праздник, который я могу себе устроить по дурости. Да, в свое время я думал высказать все, что думаю о нем, начальнику колонии, чтобы он был начеку, но когда я получше присмотрелся к нему, я передумал: пусть он сам об этом догадается или же пройдет через все, через что пришлось пройти мне. Я человек не злой (в свое время я помог нескольким парням, которые ударились в бега, какими-то деньгами, куревом, прятал их от дождя и отмазывал от легавых), но чтоб я сдох, если рискну угодить в камеру за попытку дать начальнику совет, которого он не заслуживает. Если я человек добрый, то знаю, для кого приберечь свою доброту. А любой совет, который я дам начальнику, не пойдет ему на пользу. Он только заставит его действовать куда быстрее, чем если бы он вообще ничего не знал. А этого я хочу больше. Но пока что пусть все идет, как идет, и это еще одна штука, которую я усвоил за последние пару лет. (Здорово, что я могу думать об этом так же быстро, как пишу зажатым в пятерне огрызком карандаша, иначе я давно бы бросил это дело.)
К тому времени, как я пробегаю половину утренней дистанции, когда сквозь морозный рассвет я вижу тусклые лучики солнца, цепляющиеся за голые ветви буков и белых кленов, когда добегаю до середины пути по крутому заросшему кустами откосу и по извивающейся внизу тропинке, когда вокруг ни души и ни звука, кроме ржания пегого жеребенка в стойле, которого я не вижу, я начинаю думать о самом сокровенном и глупом. Начальника кондрашка бы хватила, если бы он видел, как я съезжаю вниз по откосу, потому что я могу сломать лодыжку или свернуть себе шею. Но мне нельзя этого делать, потому что это мой единственный риск и единственный кайф, который я ловлю, летя вниз что есть мочи, как птеродактиль из «Затерянного мира», постановку которого я как-то слышал по радио. Как безумный холощеный петушок раздираю себя в клочья и почти что разбиваюсь. Но не до конца. Это самые прекрасные мгновения, потому что когда я лечу вниз, у меня в голове нет ни мыслей, ни слов, ни картинок. Я пустой, чистый, как в тот миг, когда родился, и не разбиваюсь, кажется, потому, что что-то сидящее глубоко во мне не хочет, чтобы я погиб или серьезно поранился. Глупо думать о чем-то мудреном, потому как, знаете ли, ни к чему это не приводит. Но я сам начинаю мудрить, когда пробегаю половину пути, потому что долгие пробежки по утрам наводят меня на мысли о том, что каждый забег – это жизнь. Да, маленькая, но полная горя, счастья и всего, что может с тобой произойти. И я помню, как после многих вот таких утренних тренировок я вот что подумал: не обязательно ломать голову, чтобы сказать, как закончится жизнь, если она хорошо началась. Но я, как всегда, ошибся, сперва попавшись легавым, а потом угодив в ловушку собственных диких мыслей, и не мог уверенно обойти все эти капканы, всегда рано или поздно попадался, сколько бы я ни стремился к хорошему, даже сам того не зная. Мысленно оглядываюсь назад, и мне кажется, что огромные деревья подносили ветви к стволам, как будто кривлялись и подмигивали друг другу, а я съезжал вниз по откосу и ничегошеньки не видел.
Я не говорю себе: «Тебе не надо было идти на дело, и тогда бы ты не попал в колонию». Нет, я вбил себе в башку, что удача не имела права отвернуться от меня как раз тогда, когда я почти что убедил легавых, что это, в конечном итоге, не моих рук дело. Стояла осень, а вечер выдался достаточно туманным, чтобы мы с моим приятелем Майком отправились бродить по улицам вместо того, чтобы торчать перед телеком или развалиться в шикарных плюшевых креслах в киношке. Но мне не сиделось на месте, потому как я полтора месяца вообще ничего не делал. Вы могли бы спросить, почему я так долго бездельничал, потому что обычно я, как и все, до седьмого пота вкалывал за фрезерным станком. Но штука в том, что мой папа умер от рака горла, а мама получила пять сотен фунтов страховки и пособий от фабрики, где он работал. Ей сказали «за потерю кормильца» или что-то типа того.
Теперь-то я знаю, и мама, наверное, думала так же, что пачка новеньких синих купюр ничего не значит ни для одной живой души, пока эти бумажки не начнут перелетать у вас из рук в кассу какого-нибудь торговца, а взамен их торговец этот не начнет подавать вам через прилавок всякие классные штучки. Так что как только она получила деньги, мама повезла меня и пятерых моих братьев и сестер в город и нарядила в новенькие шмотки. Потом она заказала телевизор с диагональю в пятьдесят четыре сантиметра и новый ковер, потому что старый папа так перед смертью запачкал кровью, что тот не отчищался. А затем прикатила домой на такси с массой коробок и новой шубой. И вы знаете – конечно, не поверите мне – что назавтра в ее распухшей сумке осталось почти триста фунтов? И после этого кто-то из нас стал бы работать? Бедный папа, он не дожил, чтобы взглянуть на все это, а ведь именно он принял страдания и смерть за этакую кучу бабок.
Вечер за вечером мы просиживали перед телеком с бутербродом с ветчиной в одной руке и шоколадкой в другой, зажав между ног бутылку лимонада, пока мама наверху развлекалась с очередным кавалером на новой, только что заказанной кровати. И в следующие два месяца наша семья была самой счастливой на свете, когда у нас на все хватало денег. А когда бабки кончились, я особо ни о чем не думал, а просто слонялся по улицам – искал работу, как сказал маме, – надеясь как-то раздобыть еще пять сотен, чтобы классная жизнь, к которой мы привыкли, никогда не кончалась.
Удивительно, как быстро привыкаешь к хорошей житухе. Начнем с того, что реклама по телеку показала нам, что купить можно гораздо больше, чем мы думали, когда таращились на витрины магазинов, потому как денег у нас все равно не было. А по телеку все эти вещицы казались в сто раз лучше, чем мы думали. Даже в кино реклама выглядела блеклой и вялой, потому что теперь мы спокойно смотрели ее дома. Раньше мы воротили нос от неподвижных штучек в магазинах, а теперь вдруг увидели их настоящую ценность, потому что они прыгали и сверкали на экране. И какая-нибудь белолицая бабенка переворачивалась через себя, чтобы взять их наманикюренными пальчиками или коснуться их накрашенными губками. Это вам не убогие дохлые картинки на плакатах или в газетах. Тут все сверкало и переливалось вокруг полуоткрытых пакетов и банок, заставляя думать, что нужно всего ничего – взять их и открыть самому, как будто видишь через витрину незакрытый сейф, хозяин которого ушел чайку попить, не удосужившись запереть свои бабки. Фильмы по телеку тоже классные показывали, потому что мы не могли глаз оторвать от легавых, гонявшихся за грабителями с полными денег сумками, которые вот-вот улизнут и вроде бы их потратят. Но все-таки нет. Я всегда надеялся, что им это удастся, и меня подмывало вытянуть руку, пробить экран (который казался тряпичным, как в кино, только поменьше) и как следует схватить легавого, чтобы тот перестал бежать за парнем с мешками денег. Даже если он завалил пару банковских клерков, я надеялся, что он не попадется. На самом деле тогда мне очень хотелось, чтобы он не попался, потому что иначе он угодил бы на электрический стул, а этого я никому не пожелаю, что бы тот ни сделал. Потому что в какой-то книжке я вычитал, что на электрическом стуле умираешь не сразу, а поджариваешься, пока не сдохнешь. И когда легавые гнались за грабителями, мы проделывали с телеком всякие фокусы, вроде того, что когда один из них разевал пасть, чтобы заорать «держи его!», я выключал звук и видел, что рот его шевелился, как у карася, скумбрии или гольяна, якобы говоря то, что им надо сделать. Это было так смешно, что вся семья со смеху покатывалась на новеньком ковре, который еще не переехал в спальню. Но лучше всего это получалось с каким-нибудь тори, говорившим нам, каким хорошим станет его правительство, если мы и дальше будем за них голосовать. Челюсти вяло двигались, рот открывался и что-то бормотал, рука поднималась, чтобы подкрутить усы или потрогать петлицу – не перекосилась ли бутоньерка. Так что все видели, что они не верят ни одному своему слову, особенно когда просто открывали рот, потому что мы вырубали звук. Когда начальник колонии в первый раз со мной заговорил, я так ясно припомнил это время, что едва не помер, стараясь не захохотать. Да, много мы фокусов проделали с ящиком, и мама прозвала нас «телемальчиками», чего мы вполне заслуживали.
Мой приятель Майк отделался условным наказанием, потому что это было его первым делом – по крайней мере, первым, о котором узнали – и потому, что сказали, что он на него никогда бы не решился, если бы я его не подбил. Сказали, что я представляю угрозу для честных парней вроде Майка, шляющихся руки в брюки, чтобы карманы казались пустыми, нагнув голову, словно в поисках монет, чтобы засунуть в карманы, в рваном свитере и с падающими на лицо волосами, чтобы они могли подкатить к какой-нибудь женщине и выпросить шиллинг, потому что им нечего есть. Еще сказали, что это я задумал это дело, что я могу подговорить, кого хочешь, но Богом клянусь, что это нет так. Ведь после того как я по-идиотски спрятал деньги, ясно же, что мозгов у меня не больше, чем у мошки. И меня, со всеми моими закидонами, отправили в колонию для несовершеннолетних, потому как, по правде сказать, я уже успел побывать в предвариловке для малолеток, хотя это совсем другая история, и если я ее когда-то расскажу, то выйдет она такой же скучной, как и эта. И все же я обрадовался, что Майку удалось соскочить, и надеюсь, что он всегда сумеет выкрутиться, не то что я – тупой урод.