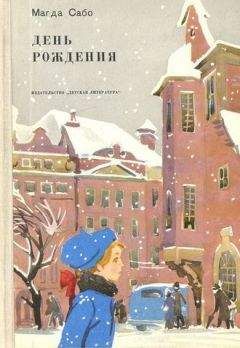Вокруг их дома стояли на страже пальмы, лавры, мирты, старые олеандры, а в маленьких горшках из майолики, расставленных возле входной лестницы, внутри открытой, не имевшей дверей гостиной и по всему внутреннему саду, скрытому за зданием, содержались карликовые кустарники. Старуху забавляло, что на родине Бланки коллекцию кактусов держат в самом доме, что растенья эти там совсем крохотные, муж Бланки вырезал ее имя на одном из кактусов, вымахавшем в раскидистое дерево – пусть и здесь этот кактус принадлежит ей; всем было смешно слышать, что на ее родине олеандр с приближением зимы вносят в дом, чтобы он не замерз. Бланка часто останавливалась возле своего кактуса, вырезала на его толстых, мясистых листьях какие-то слова. Ни муж, ни старуха не понимали надписей, сделанных на чужом языке, хотя и могли прочесть их, зная латинские буквы. Когда они спрашивали, что же она, собственно, пишет, она отвечала: имена. Это они тоже ценили, радовались, что она предана своим родным и не забывает их, а когда на острове справляли день поминовения усопших, Бланке тоже давали пучок тонких как паутинка поминальных свечей, чтобы она, по обычаю островитян, могла принести жертву на своем собственном алтаре. Удивлялись, как много она зажигает свечой, как много, должно быть, у нее умерших близких и как много времени проводит она пред алтарем; все это тоже нравилось ее свекрови, которая думала, что, когда ее самой не станет, память ее Бланка будет чтить так же усердно.
Когда Бланка – это случалось очень редко – проявляла самостоятельность, старуха не испытывала радости, но прощала ей и это. Порою среди зимы Бланка бывала непривычно оживленной, и, если муж находился на заседании суда или в своей городской конторе, домашним оставалось только удивляться ее причуде, и даже слуги мужа в такие моменты входили в дом на цыпочках, крадучись и выжидали, прячась за колоннами. Считалось неприличным, что она садится за письменное бюро мужа, и старуха запрещала слугам выдавать эту тайну кому бы то ни было. На полке, висевшей над письменным столом, белел бюст свекра Бланки, под пим она и присаживалась в такие дни, разбрасывала перед собой мужнины судебные документы, в которых не понимала ни слова, брала листы бумаги, покрывала каракулями и разглядывала их, забыв обо всем. Генриэтта, приезжавшая на остров, знала, что Бланке бюст ее свекра представлялся Цицероном, и что сама Бланка в такой момент уже не Бланка, а старый Элекеш, она воображает, будто находится дома и исправляет школьные сочинения. Генриэтта могла прочесть и то, что написано на стоявшем во дворе кактусе, – это были имена их всех, в том числе и ее собственное, и по числу свечей, стоявших на поминальном алтаре, она видела, что Бланка зажигала свечи не только в память о них, но и о майоре, и о всех тех, кого покинула, в том числе и в память о Темеш.
Генриэтта много времени провела возле нее, ей. было любопытно, кто из них и каким образом запечатлелся в душе Бланки, как она играет в их тени среди кушеток с бронзовыми ножками и низких кресел, где одна только комната мужа выглядела привычно, но как раз сюда-то женщинам и неприлично входить. Если Бланка появлялась на кухне, где ей тоже было не место, прислуга следила за ее. хлопотами с благоговением. Готовить она умела превосходно, как все девушки, учившиеся у Темеш, только дома ей было лень, да и здесь об этом вспоминалось лишь тогда, когда возникало желание окунуться в прошлое, почувствовать возле себя Темеш. О Темеш ей тотчас напоминал вкус домашней еды, хотя то, что Бланка готовила здесь, кроме нее самой, никто не мог есть, – отведав, тарелку тотчас отодвигали прочь, жалуясь на слишком крепкие специи, от которых, стоит лишь попробовать, непременно заболит желудок. Чаще всего Бланка выбирала для себя роль госпожи Элекеш и принималась шить подушки, бесформенные и неуклюжие, их отдавали слугам, но те не знали, что с ними делать, ведь на острове не было принято, садясь, подкладывать под себя мягкое на раскаленные зноем сиденья, поэтому они вежливо убирали подушки подальше, но прежде подолгу рассматривали странные изображения, вышитые Бланкой. Разглядывали колодец с журавлем, дивясь, что бы это значило, рассматривали набросанный по памяти Цепной мост, который у Бланки был тоже вышит синими нитками. В изображении они не поняли ровно ничего, различили только львов, потому что на острове когда-то жил бог с львиной мордой, и поэтому решили, что Цепной мост – что-то вроде магического знака.
Когда она вышагивала взад-вперед, старательно выпрямляя спину, напряженно отводя назад плечи и едва сгибая в коленях ноги, – будто проглотила аршин, – новые родственники следили за нею с любопытством, они ведь имели весьма смутное представление о той стране, которую оставила Бланка. Да и откуда им было знать, какая походка отличала там в свое время бравых офицеров? Бланка выучилась играть на местных инструментах; если приходили гости и свекрови хотелось похвастаться перед другими старухами своей послушной, кроткой невесткой, – ведь на острове молодые женщины почти совсем потеряли стыд, переняли в одежде дурные нравы далекой столицы и дерзко высмеивали старших, – то Бланка была готова выступить и в этой роли. Шумные рукоплескания были ей неизменной наградой за игру на дудке, на которой она исполняла самые странные на свете мелодии, как раз те, которым она выучилась у госпожи Хельд, любившей исполнять на фортепьяно пятиладовые песни. В такие моменты Генриэтта только слушала, сидя в пахнувшей ладаном и ярко освещенной приемной, куда слуги то и дело вносили кофе и прохладительные напитки, и у нее возникало чувство, что здесь присутствие ее матери было реальней, чем там, где та на самом деле пребывает: в этой звонкой, скачущей детской песенке словно бы эхом отзывались стены дома на улице Каталин. И отца своего она тоже "узнавала иногда благодаря Бланке: дело в том, что у мужа Бланки, учившегося в Парижском университете, была прекрасная библиотека, он собирал произведения иностранных авторов, и на острове Бланка вдруг набросилась на книги. «Почему ты никогда не читаешь настоящую литературу?» – спрашивал, бывало, у Бланки Хельд, когда та была еще девочкой, и предлагал ей почитать классиков. Бланка со смехом убегала, крича в ответ, что ей это скучно, неинтересно. Элекешу было стыдно за нее: девочка не поддается воспитанию, в доме у них никто, кроме него, не читает, только Ирэн. Теперь перед Бланкой постоянно лежал французский перевод какой-нибудь из любимых книг отца, и Генриэтте казалось, что Хельд, сидя среди полок с классиками, улыбается и одобрительно кивает головой; Генриэтта снова видела, как он достает с полки книгу и кладет ее на стол. Сама Бланка поддерживала порядок и среди книг. Когда-то в книжных шкафах у отца Генриэтты книги выстраивались в такой же очередности, в какой стояли теперь классики на полках у Бланки.
Генриэтту растрогало, как часто думает о ней Бланка. Муж Бланки еще с университетских времен знал о странной склонности иностранцев к животным, а свекровь Бланки, которая здесь, на острове, родилась и лишь один раз по монастырскому обету побывала на континенте, этого пе знала, И она была поражена, когда Бланка взяла под свою защиту бродячих животных, которых на острове было несметное множество, однако ни до их жизни, ни до их смерти никому не было дела. Заметив, как какого-нибудь мула или осла кусают мухи, а он только мотает окровавленной мордой, Бланка взволнованно убеждала слуг: напоите их, оботрите, немедленно снимите с них упряжь. Муж Бланки гордился даже этой ее странной прихотью, которую его мать никак не могла взять в толк; он знал, что и в этом Бланка похожа на западных женщин, поэтому терпел ее причуды безропотно, лишь иногда его злило, что из-за своры собак, рвавших друг у друга еду, он с трудом мог попасть к себе домой, да и по саду должен был пробираться осторожно, чтобы не наступить на бланкиных кошек. Генриэтта слышала, что всех животных Бланка подзывает одинаково: любая бродячая, голодная или больная животина, которую она пыталась выходить, звалась «Генриэттой». Понурые, с потухшим взглядом животные, заслышав зов «Генриэтта», тотчас поднимали головы, а. Бланка уже бежала к ним, приносила воду, кормила, со-, провождаемая ошеломленными и обалделыми взглядами свекрови и слуг. С восклицанием «Генриэтта!» служанка как-то показала Бланке задавленную собаку, которая так и осталась валяться в грязи, где ее сбило грузовиком; Бланка подобрала ее и на своей машине отвезла в местную больницу, где, все из-за тех же иностранцев, что почти без исключения приезжали с животными, в летнее время дежурил столичный ветеринар.
В Балинта и Ирэн Бланка не играла, предпочитая о них говорить. О них одних она и говорила, а свекровь, обожавшая любые истории, все не могла наслушаться. Генриэтта, присутствуя при этом, лишь удивлялась, как в этих рассказах Бланка переиначивала не только собственную жизнь, не только причины и обстоятельства отъезда из страны, но и жизнь своей прежней семьи. Ее отцом оказывался майор, но этому Генриэтта, часто посещавшая Бланку на ее повой родине, уже не удивлялась: на острове не слишком чтили учителей, человеку такой категории, как муж Бланки, и в голову бы не пришло заговорить с каким-нибудь директором местной школы, зато гарнизонного командира он постоянно зазывал в гости. Так Элекеш и майор слились для слушателей в один образ; приходилось Бланке рассказывать и о своей матери, но поскольку, кроме неряшливости госпожи Элекеш, она, разумеется, не могла дать почувствовать ни ее чарующей любезности, ни пленительного обаяния, то в этих ее описаниях Генриэтта узнавала собственную мать. Таким образом, госпожа Хельд выступала на острове в двойной роли: Бланка не только исполняла ее песни, но до мельчайших подробностей описывала ее внешний облик, характер, кроткую чистоту души. О Генриэтте и супругах Хельд, о госпоже Темеш она никогда не упоминала – только об Ирэн и Балинте, причем Балинта она тоже выдавала за брата, это было проще, чем объяснять, кто он такой, – на острове не имели представления о друге-мужчине, понимали это лишь в одном-единственном смысле. Свекровь Бланки была женщина суровая, от нее никогда не слышали жалоб, однако, как всякий старый человек, она страдала всевозможными физическими недугами и страстно мечтала о знаменитом враче, профессоре, живущем в далекой стране, для которого не существует неизлечимых болезней. По тем понятиям о мире, которых придерживались старуха и ее сын, женщине не к лицу зарабатывать деньги, и потому вечно работавшая Ирэн предстала им в описании Бланки воплощеньем доброты и милосердия, к тому же женщиной религиозной, много религиознее, чем на самом деле, чуть ли не святошей, и в конечном счете таким совершенством, что старухе порой приходила мысль – не следует ли каким-нибудь образом спасти Ирэн, помочь ей бежать с ее родины и здесь выдать замуж за любимого двоюродного племянника. Она была довольна и Бланкой, но Ирэн казалась ей женщиной еще более исключительной и безупречной.