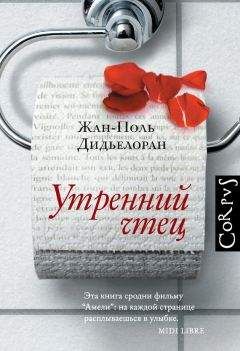Грузовик пришвартовался у самого шлагбаума с тяжелым вздохом усталого кита. Ивон на миг оторвался от Дона Родриго и Химены, убедился, что законное время подвоза истекло, и вновь углубился в действие III, явление I V. Нормативными актами предусматривалось, что в целях отдыха окрестных жителей STERN обязана прекращать любую деятельность в период с 12.00 до 13.30; правило распространялось и на движение грузовиков, поставлявших Твари пищу. Все шоферы об этом знали, и опоздавшие обычно попросту парковали свою тачку на улице и ждали, когда завод заработает снова. Лишь отдельные смельчаки, вроде сегодняшнего, порой пытались обойти запрет и прорваться силой. Водитель, твердо убежденный во всемогуществе своих тридцати восьми тонн, надавил на клаксон и нетерпеливо гавкнул из-за опущенного бокового стекла:
– Я тут до завтра стоять буду?
Сторож оставался безучастным. Парень вылез из кабины и раздраженно устремился к будке.
– Эй, ты там оглох?
Ивон, не поднимая глаз от книги, выставил вперед ладонь в знак того, что ему сейчас недосуг слушать пренебрежительное тыканье шофера-доставщика на грани нервного срыва. Белан знал, что Ивон неукоснительно следует принципу: никогда, ни под каким предлогом не бросать фразу недочитанной.
– Не прерывать нить Слова, малыш! Идти до конца, скользить по реплике, пока точка не освободит тебя!
Шофер нервно забарабанил в стекло и заорал еще презрительнее:
– Он когда-нибудь свою палку поднять соберется?
* * *Новенький, подумал Белан. Только новичок может себе позволить разговаривать в таком тоне с Ивоном Гримбером! Аккуратно заложив закладкой издание “Сида” 1953 года, Ивон кивнул Белану на ящичек, стоявший на полке, которая по периметру огибала будку. Там бережно хранились его собственные многолетние стихотворные опыты. Сторож водрузил ящик на колени и под бешеным взглядом шофера внимательно изучил имеющийся в его распоряжении репертуар. Подрагивая усами от удовольствия, Ивон вытащил карточку № 24, озаглавленную “Опоздание и наказание”. Ловко поправил галстук, пробежал глазами текст – входил в роль. Пригладил ладонью посеребренные сединой волосы, кашлянул, прочищая горло. И вот Ивон Гримбер, выпускник курса Альфонса Добена в Сен-Мишель-сюр-Лоньон 1970 года, обладатель абонемента в Комеди-Франсез с 1976-го, выпустил первый залп:
Уж полдень миновал, и стрелка часовая
Давно спустилась вниз, по кругу поспешая!
Оставьте дерзкий тон и грубую игру.
Тогда, быть может, вам врата я отопру.
С ошалелой физиономии шофера улетучились всякие следы гнева. Его подбородок с едва пробивающейся бородкой отваливался все ниже по мере того, как Ивон звучно чеканил строки. Белан улыбнулся. Новичок, конечно. По первости с ними так часто бывает. Александрийский стих застает их врасплох. От рифм, низвергающихся на голову, дыхание перехватывает не хуже, чем от ударов под дых.
– Александрийский стих, он прямой, как шпага, – объяснил ему однажды Ивон. – Бьет без промаха прямо в цель, надо только уметь его подать. Не бормотать его как заурядную прозу. Декламировать его нужно стоя. Удлинив воздушный столб, чтобы слово шло ударной волной. Перебирать стопы пламенно и страстно, читать, как любить женщину, с силой роняя полустишия, подчиняясь ритму цезуры. Александрийский стих умеет сделать вас актером. И никаких импровизаций! Двенадцатисложник не обманешь, малыш.
Ивон в свои 59 лет достиг истинного мастерства. Распрямившись во весь свой без малого двухметровый рост, он вышел из будки:
Водителей не раз преследовал мой гнев.
Являйтесь вовремя – предстанет кротким лев.
Отриньте вашу брань и ваш сердитый вид,
Проступок ваш тотчас мной будет позабыт.
Доставьте же ваш груз, но впредь остерегайтесь
Порядок преступать; часами не гнушайтесь.
Терпение мое в пословицу вошло,
Но свято я блюду закон и ремесло!
Ни чести, ни правам не потерплю урона.
В обличье благостном скрывается Горгона.
Пускай служитель я, но здесь я господин,
Судеб водительских всесильный властелин!
Шофер запаниковал. Перед ним внезапно явился не Ивон Гримбер, ничтожный заводской сторож, но всемогущий храмовый жрец. Алые губы под сивыми усами бестрепетно извергали смертоносные фразы. Парень предусмотрительно дал задний ход и на цыпочках остроносых “казаков” стал отступать к кабине своего “вольво”, ища укрытия от стихотворного ливня. Ивон последовал за ним. И покуда юноша на грани истерики изо всех сил вертел ручку, поднимая стекло, он высился на подножке и швырял в кабину охапки стихов.
Как смело и хитро – под натиском укора
В машину убежать от своего позора!
Но вам не скрыть конфуз и не унять волненья;
Чтоб смолкла песнь муз, просите извиненья!
Вконец затравленный парень, уткнувшись в руль в знак покорности, пробурчал нечто непережеванное, но похожее на сожаления. Когда он окончательно закрылся в своем стеклянном убежище, Ивон огласил воздух последним четверостишием:
Сей миг иду открыть незыблемый запор.
Стихает гнев, когда кончается раздор.
Итак, свободен путь! Спешите под разгрузку,
Везите молоху обильную закуску.
Сопровождая слова жестом, Ивон поднял шлагбаум, и грузовик зафыркал в облаке выхлопных газов. Белан отлучился из будки друга-стихотворца, чтобы проследить за разгрузкой. Шофер, еще не оправившийся от шока, вывалил половину груза на платформу, а половину на парковку. Парень отметил путевку и уехал, радуясь уже тому, что проезд открыт и ему не надо выдерживать новый натиск Ивона Гримбера: тот вновь удалился в Кастильское королевство, дабы вместе с Хименой ожидать нападения сарацин.
Настал самый страшный для Белана момент: время уборки. Проваливаться целиком в утробу Твари, чтобы вычистить ей внутренности, всегда было нелегко. Каждый вечер он пересиливал себя, спускаясь в яму, но только такой ценой можно было безнаказанно совершать свое должностное преступление. С тех пор как Ковальски развесил камеры наблюдения по всем углам цеха, Белан уже не мог извлекать добычу с прежней легкостью. После несчастного случая с Джузеппе шеф наконец оснастил завод шестью сверхсовременными цифровыми камерами – недреманными очами, круглые сутки следившими за всеми их деяниями и поступками. Чтобы подобная трагедия не повторилась больше никогда, утверждал толстяк скорбным голосом. Скорбь была напускная, Белан на нее не купился. Жирная скотина Феликс Ковальски сроду не проявил ни грана сочувствия к старику Карминетти: он считал его бесполезной проспиртованной обузой. Просто трагедия с Джузеппе дала ему нежданный шанс воплотить свою давнишнюю мечту: надзирать за подвластным ему мирком, не поднимая задницы с кожаного кресла, в котором он покоил свои телеса с утра до вечера. Плевал Белан на Ковальски с его камерами наблюдения.
* * *Отключив “Церстор”, он пробрался на дно резервуара. В такие минуты перед его взором часто всплывал образ перепуганной крысы, тщетно царапающей сталь когтистыми лапами. Он знал, что Тварь не в силах ему навредить, что пульт управления обесточен, что подача топлива прекращена. И все равно Белан держался настороже, прислушивался к самомалейшей вибрации, готовый вырываться из ее когтей, если ей вдруг не вовремя приспичит заморить червячка. Он отвинтил вал с цилиндрами и протиснулся между двумя рядами молотков. Чтобы долезть до внутренних подшипников, надо было карабкаться враскоряку еще метра два. Он крикнул Брюннеру, чтобы тот передал ему шприц со смазкой через боковой люк. В этой долговязой жерди было метр восемьдесят пять росту, и до механизма он добраться не мог. Как же бесился Брюннер, что ему нельзя взойти на борт корабля и приходится оставаться на причале, довольствуясь всякой ерундой – подать гаечный ключ 32 мм, масленку или водяной шланг. Белан зажег налобный фонарь. Здесь, в еще теплом стальном брюхе, лежал дневной урожай. Десяток листочков ждали его, всегда в одном и том же месте, единственном, куда не достигали струи из форсунок, – между стальным днищем и креплением последнего вала, утыканного лезвиями. Вырванные странички, прибитые к стенке потоками воды, застрявшие на металлической опоре, на середине рокового пути. Джузеппе называл их живыми шкурками. “Они – все, что остается после бойни, малыш”, говорил он с дрожью в голосе. Недолго думая, Белан расстегнул молнию на спецовке и засунул десяток промокших страниц под майку. Смазав все подшипники и промыв струей воды брюхо Твари, он выбрался из тюрьмы; сегодняшние избранники покоились в тепле у него на груди. Папаша Ковальски опять оторвал свою тушу от кресла и доволок ее до края вышки. Мысль, что подчиненный на несколько минут выпал из поля зрения его соглядатаев, была для него нестерпима. Сколько бы ни мигали камеры всеми своими красными глазами, ему все равно не узнать, чем занимался Гормоль в брюхе машины. Ангельская улыбка, которую каждый вечер посылал ему Белан, направляясь в душ, его отнюдь не успокаивала.