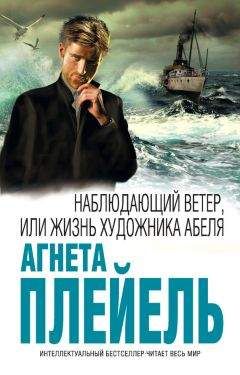Воздух в подземелье оказался затхлый, как в подвальной прачечной, где кипятят белье. Крутая каменная лестница переходила в деревянную, уводя в глубь подземных коридоров, простиравшихся на многие сотни километров под парижскими улицами. По их краям высились штабеля человеческих костей, на которых скалились груды черепов. В парижских катакомбах покоится более шести миллионов скелетов. По мере того как наверху возводили новые дома и прокладывали бульвары, захоронения вокруг церквей упраздняли, а останки свозили сюда.
Более ста лет продолжалась транспортировка. Серые похоронные процессии, вереницы запряженных в катафалки лошадей – типичный сюжет картин того времени, их можно видеть в музее Де-ля-Вилль. И останки не складывали в катакомбах как попало: могильщики проявляли не только уважение к покойникам, но и фантазию.
Вставленные в штабеля костей черепа образуют причудливые узоры. В некоторых местах высятся странные монументы с элементами интарсии. Здесь работали настоящие художники, сделавшие смерть произведением искусства – чисто фольклорный мотив, напоминающий о зловещих мексиканских культах.
И хотя теперь уже невозможно определить, какая кость кому принадлежит, повсюду установлены мраморные таблички с указанием изначальных мест захоронения и даты перенесения останков в катакомбы.
Я бродила там часами, вдыхая терпкий запах смерти. Смотрела в пустые глазницы, как в лица людей в метро или булочной. Понятно, что при жизни они не были так похожи.
У останков с кладбища при церкви Сент-Эсташ я задержалась. Здесь покоились мои соседи с улиц Ру-Монмартр и Ру-Монтогери. Возможно, кто-то из них жил в моей комнате, родился там, любил и умер. Судя по табличке, их перевезли сюда за два года до Великой французской революции, в 1787 году.
Тогда еще Сент-Эсташ была действующей церковью. Это потом революционеры разграбили и осквернили ее, устроив там праздник с участием проституток. Все кончилось пожаром, в котором само здание уцелело, после чего было перестроено в Храм Земледелия. А Нотр-Дам стал Храмом Разума. Насколько это было разумно?
Я не знаю. Революция пожирает своих детей. Вскоре казнили Дантона, потом Робеспьера. Их останки тоже покоятся в Денфер-Рошеро, только неизвестно, где именно. Обезглавленных гильотиной хоронили в братских могилах, но в свое время кости революционеров тоже погрузили на катафалки, медленно потянувшиеся по парижским улицам. Могу представить себе, как подмигивал могильщикам извозчик, набивая трубку: «Угадайте-ка, кого я вам сегодня привез?»
Не исключено, что тот день тоже выдался дождливым.
По Парижу тянулись подводы, груженные миллионами скелетов, так что под землей вырос другой город, не менее населенный, чем наверху. Парижане, без сомнения, о нем помнят. Но и я за несколько часов, проведенных в обществе мертвых, тоже кое-что поняла.
В смерти человек сохраняет свою индивидуальность. До сих пор я думала, что все черепа одинаковы, но это не так. Они различаются формой лба, глазниц, прикусом. Опытному глазу невозможно их перепутать вопреки установившейся точке зрения.
Там я научилась это видеть.
Иногда бесконечные ряды полок с костями прерываются табличкой с афоризмом или стихами, например, Горация – современника этих катакомб. Примерно в то время, когда Абель с Оскаром отбыли на Яву, в Париж приехал король Швеции Оскар II, который тоже спускался в катакомбы. Он оставил после себя одно изречение, высеченное на мраморе вместе со стихами Юхана Улофа Валлина[33] («Мира не колебля, воины отступают») на шведском и французском языках.
Афоризм Оскара II лучше звучит по-французски: «Chaque vie a sa mort, chaque mort a sa vie». Именно так: «Есть жизнь, есть и смерть». Однако верно и обратное, и в этом меня окончательно убедили несколько часов странствия в катакомбах. Я и раньше ощущала жизнь как дуновение, пронизывающее наше существо в короткое время пребывания на земле. Оно проходит через нас, или мы – через него, кому что больше нравится.
Там, внизу, я поняла, чем меня так задела судьба разгромленной церкви. Меня возмутило не осквернение святыни, а принципиальное отрицание революционерами связи с историей и мертвыми. В конце концов, это вопрос нашего будущего: если мы ничто, то и не заслуживаем ничего, кроме забвения. Но что, если то, что мы называем жизнью, – не более чем краткий миг нашего существования?
Смерть пахнет прелой листвой и заброшенным садом. Под ногами скрипит гравий. Мир мертвых и нерожденных и есть то пространство, где встречаемся мы, живые, думаю я. А если так, стоит ли придавать значение формулировкам?
На задворках своих храмов индусы сооружают специальные домики в честь почивших предков. Там они каждый вечер оставляют на пальмовых листьях еду, чтобы покойникам было чем подкрепиться во время короткого визита на землю. На мой взгляд, это мудрый и достойный подражания обычай. Я и сама могла бы заниматься тем же. Но на следующий день, если индусы голодны, они съедают нетронутое угощение. Я бы сделала то же.
Позже я беседовала о своем посещении Денфер-Рошеро с одним поляком. Из окна его мансардной квартиры просматривалась Эйфелева башня, золотившаяся в лучах солнца, как на туристическом проспекте. Хозяин квартиры смотрел на нее вот уже больше двадцати лет и давно уже перестал задаваться вопросом, настоящая ли это башня или рекламный плакат. Этот человек не доверял ни воображению, ни снам. «Все это чушь, – считал он. – Сны вносят в нашу жизнь смятение и хаос. Невозможно доказать, какое они имеют отношение к действительности».
Ох уж эти бумагомаратели, упивающиеся собственными грезами и словами!
К искусству он относился с большим подозрением. «Фантазии сиюминутны», – повторял он. В то же время его собственные рассказы и пьесы буквально кишели в высшей степени странными образами, так что голова шла кругом. И все в них было правдой, хотя, возможно, порой неприятной.
Мой друг вырос в деревне, среди кислого запаха навоза и шерсти. Он полагал, что знает, о чем пишет. Когда его называли абсурдистом, он пожимал плечами.
При этом он понимал, что с действительностью не все так просто, и эта проблема его мучила. В тот день, насколько я помню, он ждал журналиста, который должен был взять у него интервью.
– И что я должен ему говорить? – недоумевал мой друг. – Одного я не скажу ему точно. Ты догадываешься, о чем я? Ну да, конечно, о правде.
Развеселившись, он ушел на кухню варить кофе. На нем была кожаная куртка, как у американских солдат Второй мировой. Он был совсем маленьким, когда американцы появились в его деревне, и с тех пор страшно хотел такую же.
Наконец ему удалось ее купить.
Мне он очень нравился. Когда мой друг вышел из кухни, балансируя с двумя полными чашками в руках, я рассказала о своем визите к мертвым. Вопреки моим ожиданиям это его очень заинтересовало.
Для него тоже стало открытием, что мертвые и в земле сохраняют свою индивидуальность. До сих пор он полагал, что смерть уравнивает всех нас, освобождая от самих себя. Он несколько раз возвращался к этой теме.
Мы пили кофе, и я смотрела в лицо этого удивительного выходца из южной Польши.
И в тот момент, а может, в следующий, с засевшим в ноздрях запахом смерти, который вдруг стал удушающим и больше не ассоциировался у меня ни с листвой, ни с заброшенным садом, и с гудящей головой – о, этот шум! – я вдруг поняла, как оказалась на заброшенной станции с оторванным от облупившейся стены расписанием, полусгнившими шпалами и без всякой надежды дождаться хоть какого-нибудь поезда. Я лежала в постели, и меня слегка лихорадило – ничего страшного, обычная весенняя простуда, – когда вдруг осознала, почему не могу писать об Оскаре и Абеле. Нет, вовсе не потому, что пришла весна, приехали друзья и теперь я делила комнату с любимым человеком. И не потому, что была Пасха и город наполнился колокольным звоном, а молодая зелень столь отчаянно пробивалась сквозь серые камни. Причина крылась в другом.
Она заключалась в том, что я писала. Ведь именно тогда я подошла к моменту, когда должна была вытянуть из Абеля объяснение его в принципе необъяснимого желания уехать. Сознательно или бессознательно, но я насильственно вырывала из Абеля, или самой себя, рациональное оправдание его поступка, сокрушая тем самым тайну.
Моя сага, главный миф моего детства, умирала, сраженная моей рукой. Однако не успела я подумать, какую большую ошибку совершаю, как голову снова заполнил шум. В ушах у меня словно затикали часы, а потом на карнизе заворковали голуби – и механическая выверенность происходящего предстала передо мной во всей своей кошмарной очевидности.
Неужели все так просто, и причина перерыва в работе – только в желании все объяснить? Ведь само по себе это сродни искушению воскресить мертвых или вызвать из небытия собственное прошлое или собственную смерть, словно все это хранится во мне, как в обитом бархатом футляре? Меня прошиб озноб, когда я вдруг поняла, что хочу невозможного. Я отдыхала в постели, рядом на столике стояла бутылка минеральной воды, лежали яблоко и непрочитанная газета.