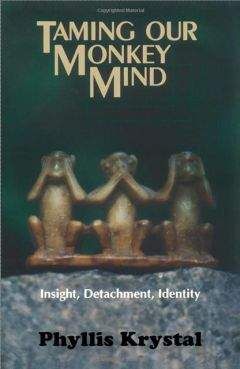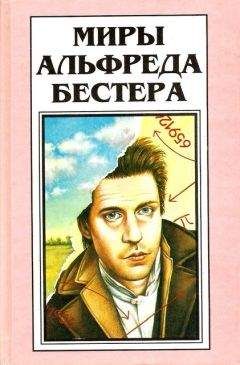Даже перед самой выпиской из реанимации я еще думал, что нахожусь в Нью-Гэмпшире и где-то снаружи катается на лыжах моя внучка. Я злился, что родители не ведут ее внутрь повидаться с дедом. Было зимнее утро – так мне чудилось. На самом деле была ночь, но почему-то снег ярко блестел в солнечном свете. Я перелез через перила больничной койки, не чувствуя никаких трубок и иголок, подсоединенных к различным капельницам. Собственные ноги на залитом солнцем полу казались мне чужими. Они не хотели меня держать, я с трудом подчинил их своей воле. А потом упал на спину. Сначала никакой боли я не почувствовал. Меня только бе-сило, что я не могу выбраться из постели и подойти к окну. Пока я беспомощно валялся на полу, прибежал санитар.
– Меня предупреждали, что вы тут набедокурите!
Врачи сказали, что моя красная спина похожа на лесной пожар с высоты птичьего полета. Меня засунули в томограф, со всех сторон толкали и давили – как в битком набитом трамвае. Я кричал, что хочу выйти. Но никто не обращал внимания на мои крики.
Мне кололи большие дозы разжижающих кровь препаратов, и падение было очень опасным. У меня началось внутреннее кровотечение. Медсестры надели на меня смирительную рубашку. Я просил своих взрослых сыновей вызвать мне такси. Дома я заберусь в ванну, и мне станет лучше.
– Пять минут – и я на месте. Мой дом тут неподалеку, за углом.
Часто мне казалось, что я нахожусь под площадью Кенмора в Бостоне. Странность этих иллюзорных окружений в каком-то смысле даже раскрепощала. Иногда мне приходит в голову, что на пороге собственной смерти я стану предаваться беззаботным развлечениям, как и любой нормальный человек – буду получать удовольствие от нелепых галлюцинаций, от вымысла, который родится сам собой, не требуя от меня никакого труда.
Я очутился в огромном подвале. Кирпичные стены давно не крашены и местами белы, как творог. Но творог этот заплесневел. Под потолком висели лампы дневного света, внизу – бесчисленное множество столов, заваленных подержанными вещами, женской одеждой, в основном пожертвованной больнице для перепродажи: белье, чулки, свитера, шарфы, юбки. Место напомнило мне магазин «Филинс бейсмент», где очень скоро начнутся распродажи, и покупатели будут драться ради выгодной покупки. Только здесь никто ни с кем не дрался. Вдалеке работали две молодые женщины, по виду – волонтеры от благотворительной организации. Я сидел в окружении десятков кожаных кресел. Выйти из этого заплесневелого угла не представлялось возможным. За моей спиной вдоль стен тянулись огромные трубы: они выходили из потолка и ныряли под пол.
Больше всего меня раздражала смирительная рубашка, от которой я никак не мог избавиться. Эта жаркая тряпка цвета хаки меня убивала, в прямом смысле. Я изо всех сил пытался развязать узлы. В голове крутилась одна мысль: «Уговорить бы этих волонтерок принести мне нож или ножницы!» Но они были очень далеко от меня, в нескольких городских кварталах, и не слышали моих криков. Я сидел в самом дальнем углу, окруженный кожаными креслами «Баркалонжер».
Еще мне запомнилось вот что:
Санитар стоит на стремянке и развешивает по стенам моей палаты мишуру, ветки омелы и чего-то вечнозеленого. Ему нет до меня никакого дела. Именно он когда-то назвал меня бедокуром. Однако это не мешает мне наблюдать за его действиями. Наблюдать я обязан по долгу службы. А службой моей была жизнь. Поэтому я просто смотрел, как он работает, стоя на невысокой стремянке, наблюдал за его сутулыми плечами и широкой спиной. Потом он спустился и отнес стремянку к следующему столбу. Снова стал возиться с мишурой и колючей хвоей.
Неподалеку крутился другой пациент – маленький беспокойный старик, ходивший туда-сюда в домашних тапочках. Мой сосед по палате, он не обращал на меня никакого внимания. У него была жидкая бороденка и нос, формой напоминающий пластмассовый скребок. На голове красовался берет. Наверняка художник. Хотя черты лица совершенно не выразительные.
Спустя какое-то время я вспомнил, что не раз видел его по телевизору. Он читал лекции и одновременно рисовал. Темы лекций модные: энвайронментализм, ароматерапия в холистической медицине и так далее. Рисунки у него были какие-то неопределенные, размытые, проникнутые любовью к природе и чувством ответственности за нее. На черной доске он сперва набрасывал море, а затем ребром мелка создавал некую иллюзию женского лица – волнистые волосы женщины, похожие на вареный ревень, виды природы, намекающие на присутствие в ней человека – что-то мифическое. Может, ундина или дева Рейна. Обвинить этого художника в мистификации или суеверии было нельзя. А вот в самолюбовании и самодовольстве – запросто. Французы называют это suffisance. Словечко «suffisance» нравится мне куда больше, чем «самодовольство», зато английское «suffocating», удушливый, я предпочитаю французскому «suffоquant». Tout suffoquant et blême [28]. (Верлен?) Если ты задыхаешься, какое тебе дело до своей бледности?
Этот Анания, или ложный пророк (художник), жил здесь, в больнице. Его обиталище располагалось за углом, и с кровати мне было его не разглядеть. Я видел только краешек книжного шкафа и зеленого настенного ковра. Санитар с мишурой очень почтительно беседовал с художником, который не обращал на меня никакого внимания. Ноль! Мне было не дозволено производить какое-либо впечатление. Под этим я разумею лишь то, что не попадал в его сложившуюся картину мира.
Меж тем TV artiste явно жил здесь очень давно и сегодня выписывался. Из его обиталища выносили большие картонные коробки. Грузчики собирали вещи. Книги в чудовищной спешке исчезали с полок, а полки – со стен. Откуда-то примчался грузовик, и возникла старуха-жена в длинном золотисто-зеленом платье и атласной шляпе. Она оступилась, и двое человек помогли ей забраться в кабину грузовика. Художник засунул тапочки в карманы пальто, надел мокасины и уселся рядом с ней.
Санитар проводил его, а затем подошел ко мне.
– Вы следующий. Мне велено убрать вас отсюда сию же минуту.
В тот же миг команда рабочих разобрала все тумбочки и шкафы. Стены рухнули, как театральные декорации. Ничего не осталось. Тем временем подъехал грузовой фургон, и всю мою уличную одежду, мою «борсалино», электрическую бритву, туалетные принадлежности, диски и прочее запихали в полиэтиленовые пакеты из супермаркета. Мне помогли сесть в инвалидное кресло, и я оказался в кузове. Там был целый кабинет – сестринский пост, полностью оборудованный и хорошо освещенный. Фургон рванул вперед и нырнул в подземный туннель. Некоторое время мы мчались на всех парах, затем остановились. Огромный двигатель работал вхолостую. Долго.
Со мной была только одна медсестра. Она увидела, что я обеспокоен, и предложила меня побрить. Я согласился, что бритье мне не повредит. Тогда она намазала меня мыльной пеной и обрила при помощи одноразовой бритвы «жиллетт» или «шик». Редкая медсестра знает толк в бритье. Обычно они сразу мажут щеки пеной, не размягчив сперва щетину, как в стародавние времена делали цирюльники, накладывая на лицо горячее влажное полотенце. Без этого бритва больно дергает щетину, и все лицо потом щиплет.
Я сказал сестре, что к четырем часам жду свою жену Розамунду, а большие круглые часы на стене показывают уже четверть пятого.
– Как вы полагаете, где мы находимся?
Сестра не знала. Я думал, что мы стоим под площадью Кенмора в Бостоне, и, если двигатель заглушить, мы услышим поезда зеленой ветки метро. Стрелки часов приближались к шести – утра или вечера? Мы медленно катили вдоль тротуара, по которому люди – их было не слишком много – поднимались на улицу или спускались под землю.
– Вы стали немножко похожи на индейца, – сказала медсестра. – И здорово похудели. Кожа обвисла, мне сложно выбривать складки. Вы раньше были полным?
– Нет, просто вес у меня то и дело скачет. Я всегда выглядел лучше сидя, чем стоя, – ответил я и, несмотря на одолевшую меня грусть, рассмеялся.
Сестра не поняла юмора.
Фургон исчез. Надо было срочно освободить палату – она понадобилась кому-то другому, – и прямо среди ночи меня перевели в другое крыло.
– Где ты была? – раздраженно спросил я Розамунду, когда она наконец пришла.
Она объяснила, что ночью ей приснился плохой сон про меня, она вскочила и уже не смогла заснуть. Вызвала такси и сразу приехала.
– Сейчас вечер, – сказал я.
– Нет. Раннее утро.
– Где я?
Сестра оказалась на удивление чуткой и доброй, она задернула занавеску вокруг моей койки и велела Розамунде:
– Снимайте туфли и ложитесь к нему. Вам нужно выспаться. Обоим.
* * *
Еще одно короткое видение, приведу его для полноты картины.
В нем фигурирует Вела.
Выставлю нас двоих напоказ всему миру. Ее открытая, изящная ладонь направляет внимание публики на мою сутулую спину и неуклюжую позу.
Мы персонажи некой сценки. Стоим вдвоем у блестящей мраморной стены банка – инвестиционного банка. Я знаю, что мы снова в ссоре, и все же, по ее просьбе, я пришел на встречу. Она не одна: с ней молодой и весьма элегантный испанец, лет двадцати пяти или тридцати. Кроме того, с нами сотрудник банка, болтающий по-французски. В великолепную мраморную стену врезаны две монеты. Одна – десятицентовик, вторая – серебряный доллар диаметром десять или двенадцать футов.