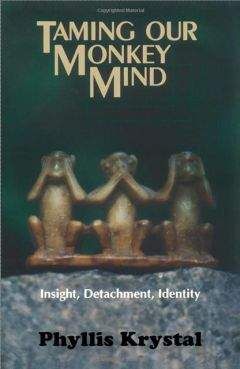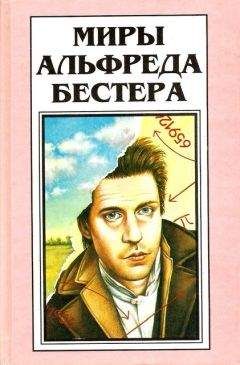Выходит, эти женщины наделили любовь даром спасать жизни? Если бы они участвовали в опросе, то наверняка бы написали, что это невозможно. Известный афоризм Равельштейна: «Американский нигилизм – это нигилизм без бездны». Любовь в современном мире давно дискредитирована, но души сестричек из реанимации, каждый день имеющих дело со смертью, оказались более восприимчивы к высоким чувствам, нежели души сотрудников других – спокойных – отделений. Почему-то никто не сомневался, что любовь Розамунды – стройной, темноволосой, прямоносой красавицы – искренняя, настоящая. Любовь пользовалась тайным уважением у этих медсестер, чьи пациенты, как правило, отправлялись в морг. Для нее – для нас – они поступились правилами. Розамунде позволили спать рядом с моей койкой, прямо в палате.
Когда я вышел из реанимации, ей разрешили устроить небольшой праздничный ужин. Доктор Бертолуччи принес из дома пасту «маринара». Я сидел в кровати, уминал спагетти и читал лекции о каннибализме в Новой Гвинее, где убитых врагов поджаривали на вертеле у подножия утесов, по которым каскадами спускались дивные тропические цветы.
Даже потом Розамунде разрешали приходить и уходить, когда вздумается. После ужина она уезжала домой на своей «краун-виктории». Чтобы успокоить меня, она говорила:
– Машина надежная, не подведет. К тому же на таких ездят полицейские. На светофорах мне в ней спокойно. Плохие парни думают, что я коп в штатском и вооружена до зубов.
Впрочем, это не помешало кому-то однажды ночью, прямо на парковке возле нашего дома, разбить машине стекло. И еще Розамунда не любила видеть крыс, сидевших рядами перед рестораном на Бикон-стрит.
– Сидят в рядок, как присяжные, – говорила Розамунда. – Глазки так и блестят на свету.
Когда она впервые за несколько недель поднялась на третий этаж, у двери квартиры ее ждал кот – хотел встретить, а может, упрекнуть в пренебрежении. Кот был деревенский, привык охотиться на мышей, бурундуков и птичек. Теперь он целыми днями лежал на подоконнике и наблюдал за скворцами, голубыми сойками и гигантскими воронами. Городские вороны были куда больше лесных – или так только казалось, учитывая меньший размер городских деревьев. После обеда их карканье отражалось от нашей крыши, словно всхлипы ножовки по металлу.
Вероятно, у этого карканья было какое-то биологическое предназначение, но меня оно не интересовало. В то время я вообще не думал об отвлеченных вещах – равно как и о том, что делал для спасения своей жизни. Если бы я хоть ненадолго задумался, то понял бы, что фактически выкапывал себя из могилы голыми руками. Многие бы восхитились моей живучестью или преданностью жизни. Я воспринимал это совсем иначе.
Заглянув в пустой холодильник (ходить по магазинам ей было некогда), Розамунда съедала какую-нибудь сырную корку и, замотав волосы полотенцем, вставала под горячий душ. Потом ложилась в постель и звонила родителям. Просыпалась она в семь, по будильнику, и сразу ехала в больницу. Розамунда знала все прописанные мне лекарства и могла рассказать врачам о моей реакции на каждое из них, о моих аллергиях и артериальном давлении за несколько дней. В красивой головке этой женщины умещалась масса сведений и сложный сортировочный аппарат. Она с уверенностью заявляла, что я проживу еще много лет и непременно увижу XXI век. Она считала меня гением. Я же казался себе скорее фриком.
Какую тему я бы ни поднял, Розамунда сразу же меня понимала. Равельштейн бы порадовался. Конечно, у него не было моего преимущества – той близости с нею, какая была у меня. И еще я, похоже, верил, что не умру, покуда не верну все долги. Равельштейн ждал от меня мемуаров. Чтобы исполнить данное ему обещание, я должен был жить. Конечно, если так рассуждать, то верно и обратное: как только мемуары будут написаны, я теряю защиту и становлюсь смертен, как и все остальные.
– На тебя это не распространяется, – сказала однажды Розамунда. – Ты все равно будешь писать. Как только почувствуешь нужную тональность, тебя ничто не остановит. К тому же ты будешь жить ради меня.
Я часто вспоминаю, как спросил Равельштейна, кто из друзей, по его мнению, последует за ним в ближайшее время – «чтобы составить компанию», так я тогда выразился. Внимательно осмотрев мое лицо, морщины, общий внешний вид, он решил, что я, скорей всего, отправлюсь за ним первым. Такой уж он был. Если вы просили его говорить прямо, он вас не щадил. Однако ясность его ума в те дни была кратковременным явлением, подобным быстро замерзающей жидкости. Как мне следовало понимать его слова? Что именно со мной он первым делом встретится в загробной жизни? Судя по всему, да. Вот только Равельштейн не верил в загробную жизнь. Платон – в таких вещах он часто руководствовался его суждениями – нередко упоминал жизнь после смерти, однако нельзя понять, серьезно он говорил или то была просто фигура речи. Но я не собирался лезть на ринг с этим великим чемпионом по сумо. Равельштейн понимал Платона куда глубже меня и одним ударом могучего живота вышиб бы меня с сияющего ринга в шумную темноту.
Однажды, впрочем, он спросил меня, что я думаю о смерти – какой она будет. Когда я ответил: «Картинки показывать перестанут», он долго раздумывал над моим ответом и, видимо, зашел в тупик. Никто не хочет отказываться от картинок – возможно, их все-таки будут показывать. Я иногда гадаю, есть ли на свете хоть один человек, который всей душой верит, что в конце жизни его ждет черная могила – и больше ничего. Никто не хочет отказываться от картинок. Картинки должны быть – и будут. Если атеист-материалист Равельштейн в завуалированной форме дал мне понять, будто верит в нашу встречу, значит, он тоже не считал, что могила – это конец. На самом деле, никто так не считает, это мы только на словах храбры.
Когда я сказал Равельштейну про картинки, он громко расхохотался: «Хар-хар-хар!» Однако мой ответ ему понравился, я это понял.
А потом он позволил себе сказать:
– Смотрю на тебя и вижу: скоро ты отправишься следом за мной.
Это было невольное и нормальное, тайное, эзотерическое признание человека из плоти и крови. Плоть сморщится и исчезнет, кровь высохнет, но никто в глубине души, в самом сердце, не верит, что картинок действительно больше не будет.
Примерно восемьдесят процентов пациентов реанимации умирают в палатах. Из выживших двадцать процентов остаются инвалидами на всю оставшуюся жизнь. Этих инвалидов отправляют в места, которые в здравоохранении принято называть «учреждениями по уходу за хроническими больными». Нормальная жизнь им не светит. Про остальных – счастливчиков – здесь говорят, что они «на танцполе».
На танцполе за мной ухаживали другие врачи и сестры; прежних, из реанимации, я практически не видел. Двое из них, измотанные и осунувшиеся, заглянули сообщить, что уезжают в отпуск. Поскольку мой случай был необычный и увенчался успехом, они захотели со мной попрощаться. Доктор Альба принесла домашний куриный суп, а доктор Бертолуччи – лазанью и большой запас фрикаделек в томатном соусе, как те, которыми он угощал меня в реанимации. Я все еще не умел есть самостоятельно. Ложка дрожала у меня в руке и билась о края тарелки; о том, чтобы донести ее до рта, и речи не было. Доктор Бертолуччи пришел пообедать со мной и Розамундой. Все еще больной, я то и дело поднимал тему каннибализма. Невзирая на это, доктор Бертолуччи остался очень доволен моим состоянием и все повторял: «Вы выкарабкались. Опасность позади». Он спас мне жизнь. Я сидел в кровати, ел обед, приготовленный самим доктором, и вовсю чесал языком. Розамунда тоже была рада и взбудоражена. То был мой первый вечер «на танцполе», учреждение по уходу за хроническими больными мне не грозило.
Сразу после перевода «на танцпол» меня осмотрел дежурный невролог. История болезни хранилась на сестринском посту в толстой папке. Розамунда тоже вела дневник, и дежурный врач задавал ей много вопросов.
В полночь ко мне пришел и доктор Бакст, главный невролог. Он тоже задавал вопросы Розамунде – та осталась ночевать в кресле рядом с моей койкой.
Меня лечили от пневмонии и сердечной недостаточности. И хотя я был «на танцполе», я еще не «выкарабкался», нет. Пока нет. Подробно описывать все свои проблемы я не стану, скажу просто: мое состояние было далеко от нормального, и будущее по-прежнему лежало в тумане.
Доктор Бакст пришел с пакетиком иголок. Осматривая меня – втыкая иголки мне в лицо – он обнаружил, что моя верхняя губа парализована. Даже когда я говорил или смеялся, то чувствовал в ней странное онемение. Врач провел несколько простых тестов – я их провалил. То и дело он просил меня рисовать циферблаты часов. Поначалу я не мог нарисовать вообще ничего. Руки не слушались, полностью мне отказали. Я не мог есть суп и расписываться. Не мог держать ручку. Когда врач просил: «Нарисуйте мне часики», я выводил в лучшем случае кривой ноль. Доктор Бакст считал, что все это – следствие отравления. Бедье на Сен-Мартене накормил меня ядовитой рыбой. Невролог сказал, что я стал жертвой сигуатоксина. Я уже готов был поверить, что Карибские острова – самое худшее место на земле. Врач-француз, к которому я обратился на острове, диагностировал у меня денге. Впрочем, он мог и скрыть истинный диагноз. Австралийский эксперт по сигуатоксину описал симптомы этой болезни доктору Баксту по телефону. Хотя некоторые из бостонских коллег Бакста не согласились с диагнозом, я был склонен верить Баксту, поскольку проникся к нему теплыми чувствами – по причинам, что и говорить, не имеющим никакого отношения к медицине.