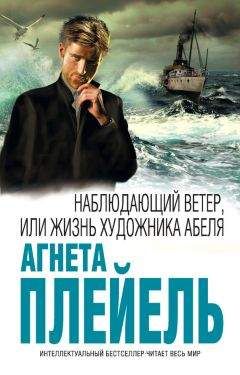Но я никогда не брала в руки кисть, даже не пробовала. Поэтому все, что могу сказать: я была очарована этой страной. Индонезия осталась в прошлом, вряд ли мне когда-нибудь суждено туда вернуться. Однако теперь я лучше понимаю дедушку Абеля, который, вероятно, и сам не подозревал, как много она для него значила.
Я помню, как взметнулись его руки за миг перед смертью, словно он стоял на палубе корабля. Си потом часто об этом рассказывала. Страна, в которую уходил от нас дедушка Абель, напомнила ему прекраснейшее место на Земле. Я в этом уверена.
По совету друзей мы обратились за помощью к шведскому консулу в Джакарте. Потому что, как уверяли нас друзья, он мог бы позаботиться о скорейшем прибытии нужных бумаг из Швеции и проконтролировать процесс в целом.
Консульство находилось в добротном каменном здании со шведскими гербами на стенах и государственным флагом. Консул – современный наследник дела дедушки Оскара и Абеля – выслушал наш рассказ, не меняясь в лице. В его серых глазах мелькнула усталость.
Он оставался сдержанно вежлив. Позже я подумала, что вся наша история могла показаться ему плодом больного воображения. Он принял нас за двух сумасшедших. Вероятно, мы не в меру горячились, и слова лились из нас неконтролируемым потоком. Кроме того, наша история оказалась для него слишком длинной. Она началась в позапрошлом столетии и до сих пор не закончилась. Си несколько раз доставала носовой платок, чтобы высморкаться и вытереть слезы. Консул галантно проводил нас к двери. Разумеется, у него были заботы и поважнее.
У меня сложилось впечатление, что представители нашего правительства за рубежом – в отличие от консульств некоторых других государств – не считают своей первостепенной задачей защиту собственности шведских граждан за границей. Понятная и в известном отношении похвальная позиция, свидетельствующая о сдержанности и трезвом подходе к делу. Однако в тот день, выходя из украшенной гербами резиденции, мы вряд ли могли отдать ей должное.
Вскоре после этого мы отбыли домой чартерным рейсом. За одиннадцать часов перелета из Шри-Ланки до Цюриха мы успели сыграть сто двадцать шесть партий в покер, потому что ни я, ни Си не могли ни читать, ни спать. Под нами проплывали континенты, задымленные города и скрытые облаками пространства морей. За окружавшими иллюминатор облаками простиралось бесконечное небо.
С нами столько всего случилось, что мне оставалось удивляться, как Си пережила следующую зиму. Она повидала страну детства и совершила главное путешествие своей жизни. Она понимала, что такая возможность ей больше не представится, поэтому чувствовала себя не только сказочно богатой, но и глубоко несчастной.
И вот на днях я получила от Си письмо. В нем она рассказывала, как во сне заблудилась в незнакомом городе. И Ян, мальчик из Сурабаи, тот самый, что шестилетний сидел на белой оштукатуренной стене, умер в Австралии. Единственная нить, связывающая ее с Явой, порвалась.
Потому что спустя месяц или два после нашего возвращения в Швецию дом в Сурабае исчез. Он испарился, оказался погребен под грудой бумаг, стерт с лица Земли неумолимой бюрократической машиной, а наши деньги остались лежать под его развалинами или, точнее, осели в карманах неизвестных нам людей.
Экивоки, отговорки, ссылки на непредвиденные обстоятельства. Все было кончено. Дом перестал для нас существовать.
Тем не менее во время нашего путешествия нам с Си удалось вызволить из небытия дедушкино имущество. Само по себе это было много, пусть даже в следующий момент мы его потеряли.
А сейчас? Где я сейчас? Я отложила записи, я не могу работать. Где я? На заброшенной железнодорожной станции с оторванным от облупившейся стены расписанием? Я вернусь к Оскару и Абелю, но не раньше, чем расскажу еще одну историю. Не могу сказать, насколько она уместна. Этого, как показывает мой опыт, заранее знать нельзя.
Со стороны моря Сурабая выглядит как узкая полоска дыма между небом и водой или как расплывшееся световое пятно, если ночь. Приблизившись, различаешь приземистые желто-коричневые или серо-белые строения, между которыми петляют хорошо утрамбованные глиняные дороги.
Через город протекает река. Иногда она мутнеет и будто с трудом перекатывает бурые волны. Однако когда ил оседает на дно, снова становится прозрачной, серо-зеленой и быстрой. Река называется Кали Мас, что означает «Золотой поток».
Когда-то в центре города, сразу за главной улицей, располагался монастырь с хорошо известной местным жителям благотворительной больницей. Последняя представляла собой кирпичное здание за белой оштукатуренной стеной без окон с выходящими на улицу деревянными арочными воротами. Во дворе стояла скромная часовня, а внизу, вдоль реки, тянулись низенькие пристройки для прислуги. Там же находились кухня, сарай для повозок и конюшня.
Посередине двора рос огромный варингин с выступавшими из-под земли белыми корнями. Джонгос, слуга-индонезиец, поддерживал во дворе порядок и вел непрерывную борьбу с сорняками, особенно под деревом, где стояла скамейка.
В конюшне жили две лошади. Время от времени белые сестры, под опекой которых находилось благотворительное учреждение, выезжали на повозке в город. За хозяйственными пристройками начинался покрытый непроходимыми зарослями прибрежный склон.
Перед кухней всегда горел огонь в небольшом открытом очаге. На нем повариха готовила монахиням еду. У нее была серая обезьяна, которая сидела в деревянной клетке и громко кричала.
Из всего этого сегодня сохранилось только главное здание и варигин. Но о монастыре уже мало кто помнит. А он принадлежал ордену урсулинок, которые то и дело сновали по двору в длинных белых одеяниях.
В те времена по стране прокатилась волна восстаний. Голландцы подавляли бунты с помощью преданных им малайцев. Босые, в оборванной синей форме, малайцы пробирались сквозь джунгли, преодолевая овраги и возвышенности. Далеко не у всех у них имелись ружья.
Иногда в часовне звонили в маленький колокол. Его звук был едва слышен за доносившимся с улицы шумом – криками торговцев, цокотом копыт и скрипом тяжелых телег, которые тянули по дорогам запряженные парами быки. Перед серо-белыми стенами без окон, окружавшими монастырь, день-деньской не стихал людской поток.
Малайцы, яванцы, армяне, арабы и китайцы вздымали босыми ногами пыль. Среди них были торговцы вразнос и владельцы лавок, земледельцы, и кули[38], и рыбаки, прибывшие в город на своих лодках-праусах под коричневыми парусами. Повара выходили на рынок за продуктами, слуги бегали по поручениям господ, и повсюду кишели грязные, полуголые дети.
Даже в самые жаркие часы народу на улицах не убавлялось.
Только с наступлением темноты за стеной было слышно, как колокол из часовни звонил к вечерне. Тогда монахини собирались в зале с простым деревянным крестом на стене, с которого на них устало смотрел Иисус Христос. В этот час из открытых дверей пристроек доносился шум. От очага к широким светло-зеленым листьям банановых деревьев поднималась прямая струйка дыма. Из часовни слышалось пение монахинь на незнакомом слугам языке.
Бледные лица сестер видели мало солнца. В свободное от молитв время одни из них наставляли учениц монастырской школы, другие ухаживали за пациентами больницы – приземистого вытянутого здания по другую сторону двора.
В монастыре туземцам оказывали бесплатную медицинскую помощь, а потому койки никогда не пустовали. Напротив, человеческие тела лежали на земляном полу, как тюки. А у ворот за больничным корпусом, под лучами палящего солнца, часами сидели и полулежали больные, ожидавшие своей очереди.
Они приходили к урсулинкам со всех концов страны. Иные добирались по многу дней из отдаленных горных селений. У некоторых на лицах и пальцах были язвы, другие демонстрировали сестрам волдыри и открытые раны на разных участках тела, третьих знобило или лихорадило, четвертые приносили истощенных, с угасшими глазами детей.
Бывало, сестрам приводили одержимых злыми духами. И тогда туземные слуги стремглав мчались к реке, потому что таких болезней они страшились больше всего.
Сестры же, напротив, спешно оставляли свои занятия и спешили к человеку, в чьем теле неистовствовали бесы. Для одержимых была отведена специальная маленькая комната, запиравшаяся на тяжелый висячий замок.
Однако, заслышав вечером звон колокола, все не дождавшиеся приема больные покидали территорию монастыря. Потому что рабочий день кончался, и наступало время покоя и мира. Сестры возносили молитвы своему белому Богу, а повариха слушала их песнопения, сидя у очага на корточках.
Потом опускался вечер, поглощая дневные краски и наполняя мир своими звуками: стрекотом сверчков, пронзительными криками тропических ящериц и доносившимися со стороны реки лягушачьими концертами. И тогда повариха вставала и отправлялась на покой, разминая отекшие ноги. А ее джонгос нес в трапезную дымящиеся блюда с рисом и овощами.