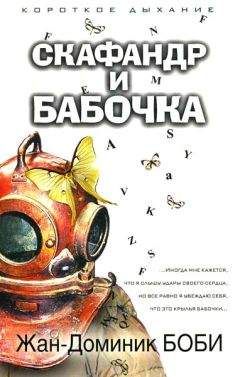Я не мог смотреть на страдания Митико. И меня охватил себялюбивый страх, что я не смогу рассказать ей все до конца. Я так долго ждал, чтобы выпустить из себя все это: вину, сожаления, сумрак, уже целую вечность наполнявший мои дни. Никому другому я не смог бы рассказать о сделанных в жизни ошибках – и она, знавшая и даже любившая Эндо-сана, была чудом, на которое я никогда даже не смел надеяться.
– У меня остается все меньше времени.
– Утром мы поедем на остров Эндо-сана, – сказал я, чтобы чем-то ее отвлечь, заставить чего-то ждать.
Мое первоначальное нежелание показывать ей остров исчезло, стоило мне лучше ее узнать. Не отвезти ее туда было бы жестоко.
– Да. Я так сильно хочу его увидеть. – Она закашлялась. – Можно я поживу там, пока не…
– Конечно, – быстро сказал я, не дав ей закончить то, что она хотела сказать.
– Мы поедем на вашей маленькой лодке? Мне бы очень хотелось.
Я покачал головой и рассказал про свою лодку, ту, что столько раз перевозила меня на остров Эндо-сана. Дерево прогнило и стало разваливаться, образовав течь, которую нельзя было починить. В последний раз я вышел на ней в море на восходе солнца. Остановившись как раз напротив острова Эндо-сана, я стал ждать, пока лодка медленно наполнится водой, и гладил ее расщепленные борта и трещины в корпусе, тихо с ней разговаривая. Море наполняло ее с уважением, понемногу, и я почувствовал, как вода дошла мне до лодыжек, потом – до голеней, потом – до коленей. Все это время я наблюдал, как свет нового дня прикасается к деревьями на острове, пока не набежала волна и я не всплыл на поверхность. Я задержал дыхание под водой и смотрел, как лодка моего детства беззвучно падала вниз и, подняв тучи песка, ударилась о морское дно. Как и одинокой казуарине, ей было столько же лет, сколько мне, и я ни разу не пожалел, что не дал ей имя. Это была моя лодка, и этого мне было достаточно.
Нам не пришлось собирать много вещей. Вся ее одежда была в чемоданах, и Мария помогла мне их донести. Я поддерживал Митико за руку, и мы осторожно спустились по лестнице к лодочному сараю. Она оделась потеплее. Прямо перед рассветом налетел шторм, и воздух еще не прогрелся. Сидя в ее комнате, мы наблюдали за молниями и гадали, что принесет нам день.
Путь к острову Эндо-сана, который в молодости я проделывал так часто и с такой легкостью, теперь меня утомил.
– Он кажется так далеко, – сказала Митико, прикрывая глаза сложенной козырьком ладонью.
– Мы скоро будем там. Это кажется далеко из-за моих старых костей, только и всего.
– Я рада, что приехала сюда, и рада, что мы познакомились. Спасибо вам за прошлую ночь.
Я кряхтел, и капли пота принялись жалить мне глаза. Митико наклонилась вперед и стерла пот краем рукава. Мы проплыли мимо скал, которые когда-то казались мне похожими на ряд гнилых зубов, но, как я потом понял, на самом деле были очень красивы, словно древние путевые знаки, предупреждавшие держаться подальше от места, которое они охраняли.
Я вытащил лодку подальше от водной кромки и помог ей вылезти на берег. Ее глаза тут же обратились к ориентирам, которые я ей описывал.
– Вот скала, на которой вы написали свое имя! – Она пробежала пальцами по моим каракулям. – Она существует, – прошептала она с изумлением в голосе. – Здесь все настоящее.
Я повел ее в бамбуковые заросли. Садовники Истаны каждую неделю исправно выполняли свои обязанности, и пышная зелень вокруг поддерживалась в полном порядке. Мы подошли к дому, и у нее вырвался тихий вскрик:
– От выглядит точно так же, как домик для гостей в имении его отца!
Она остановилась, окидывая дом взглядом.
– Вы хорошо о нем заботитесь.
Я помог Митико войти в дом. Внутри все осталось почти так, как было. Старые изношенные татами заменили, но рисунок с изображением Дарумы, монаха с отрезанными веками, висел в той же самой нише, в которую его повесил Эндо-сан, когда был жив.
Я достал из шкафа футон и раскатал его на полу, чтобы Митико могла прилечь. Ее дыхание стало затрудненным, и я попытался скрыть тревогу.
– Что с вами? – спросила она.
– Мне страшно.
С тех пор как мне довелось пережить подобное по силе волнение, миновало уже столько времени, что я перестал думать о нем, перестал его чувствовать.
– Я боюсь рассказать вам о том, чем все кончилось. Я хочу, и мне нужно это сделать, но мне так страшно.
Она видела мое смятение, и нежное сочувствие на лице заставило меня поверить в то, что она потом сказала.
– Я не собираюсь вас судить. Я не могу ни вынести вам приговор, ни простить. У меня нет таких прав. Ни у кого их нет.
Теперь пришла ее очередь держать меня за руку.
– Я приехала сюда, потому что когда-то любила одного человека и так и не перестала его любить – вот и все.
Она сильнее сжала мне руку, и на ее лице заиграла улыбка, и я понял, что бояться мне нечего. Если кто-то на земле и мог меня понять, то это была она.
– Расскажите.
Муссон вернулся, как семейный гость, с которым кто-то мирился, кто-то терпеть не мог, а отдельные чудаки даже любили, – и былое сияние солнца снова стало темным воспоминанием, когда в небе бросил прочный якорь прибывший флот грозовых туч.
Перед рассветом я каждый день бегал по берегу сквозь утренний моросящий дождь, не выпуская остров из поля зрения. Один раз я увидел направлявшийся к нему маленький сампан, и мое сердце забилось быстрее. Но когда сампан пробился сквозь вуаль дождя, я обнаружил, что это был всего лишь рыбак, отважно рассекавший бурные волны, с бакланом на носу лодки. Он помахал мне, и я помахал в ответ, пожелав хорошего улова.
С визита генерала Эрскина прошло меньше недели, и Эндо-сана еще не нашли. Я не беспокоился напрасно: он вполне мог о себе позаботиться, и у него наверняка было безопасное укрытие, чтобы спрятаться. Я собирался ждать его, сколько бы ни потребовалось.
– Могу ли я поговорить с хозяином дома?
Я слегка вздрогнул. В наступивших сумерках моросил мелкий дождь. Я сидел под зонтом на террасе, держа в руках письмо, извещавшее о смерти Эдварда в лагере четыре месяца тому назад, и рассматривал небо, наблюдал за тяжелыми облаками, пытавшимися прогнуть горизонт. Эти слова, пусть и сказанные тихим голосом, выдернули меня из моих грез.
Я положил письмо на стол и поднял глаза на Эндо-сана.
Вот так время – озорное, жестокое, всепрощающее – снова и снова играет с нами шутки.
– Я хотел бы одолжить у тебя лодку.
Он вытянул руку, и я потянулся к ней через стол, через время и схватил так крепко, как только мог. Он притянул меня к себе и обнял. Потом он слегка отстранился и коснулся моей макушки.
– Ты так вырос с тех пор, как я впервые тебя увидел! В тот день, когда сидел здесь, не двигаясь, и смотрел на море. Ты был таким грустным.
– Знаете, вы были правы, когда говорили, что нам придется пережить ужасы. За эти годы случались дни, когда я вас ненавидел и даже хотел убить. Мне приходилось напоминать себе о своем истинном пути. Иногда я с него сворачивал. И я не оправдал ничьих ожиданий.
Он не смог спорить с правдой, которую я сказал, и просто спросил:
– Чем ты собираешься теперь заняться?
Я покачал головой.
– Точно не знаю. Думаю, восстановлю компанию, восстановлю свою жизнь. – Помолчав, я добавил: – Это все зависит от вас.
– Я не смогу быть с тобой. Отныне наши дороги расходятся.
– Я могу пойти с вами по вашей.
Он покачал головой:
– Это только отсрочит нашу судьбу. – Он повернулся и взял меня за руки, изучая взглядом мои пальцы и ладони. – Мы должны достичь гармонии сейчас, достичь равновесия, чтобы когда я встречу тебя в следующий раз, песок был девственно-гладким. И тогда мы сможем пойти по бесконечному берегу далеко-далеко, к самому горизонту.
Согласиться с этим было трудно, но в то же время я видел это так же ясно, как парившую в небе птицу.
Тучи отнесло ветром, и мы прошли по саду между статуй. У могилы отца Эндо-сан поклонился, и его сердце сказало слова, которые я отчетливо расслышал и которые зазвенели у меня в ушах, словно эхо в каньоне.
Он встал под казуариной, одиноким деревом, пристально смотревшим на остров Эндо-сана. На нас капала вода, неся с собой аромат листьев.
– У тебя самый красивый дом на свете.
Мне было тяжело дышать, воздух бурлил в легких, как вспененное ветром море.
– Ты готов?
Я схватился за мокрую кору дерева, словно пытаясь прильнуть к нему, привязать себя к его неподвижной сущности, чтобы мне не пришлось делать следующий шаг. Но я видел боль в лице Эндо-сана и не мог отказать ему.
Мне оставалось только взять с собой белую ги с черной хакамой, и то и другое – подарки Эндо-сана. Я снова сидел на веслах, а он сидел лицом ко мне, лицом к своему острову, с неизменным бесстрастием на лице, а лодка плыла по смеси течений, скрытых от нас дождем. Весла вибрировали и пели с каждым гребком. Я увидел наше суденышко с огромной высоты, с двумя фигурками, которые, я знал, были мы сами. Мы казались такими маленькими, а лодка прошивала морскую гладь, словно игла, оставляя за собой белую нитку. И я увидел в огромном море зеленый остров, а границы моря отсвечивали подкладкой из света, словно гигантский лист рисовой бумаги, края которого трепещут, подрубленные красными угольками, готовые вспыхнуть пламенем.