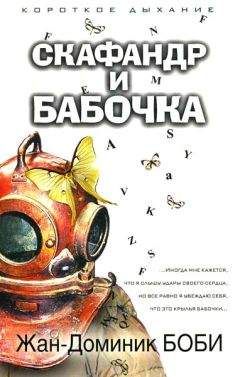– Потому что боялся… – начал я и остановился. Но заставил себя продолжить: – Что будет, если я забуду его, забуду все, что случилось?
Объяснение было недостаточно ясным, и я в отчаянии сжал кулаки.
Она легко кивнула, и я увидел, что она поняла, что я пытался сказать.
– Вы не забудете. Он сделал вам самый большой подарок, какой только мог. Он научил вас всему, что знал, и это дало вам силу, безопасность и бесстрашие на всю жизнь. На всю жизнь. – Ее голос стал тверже, подчеркивая важность слов.
Я погладил рукоять меча, впитывая в себя то, что она сказала.
– Помните, что он сказал, когда впервые показывал вам, как делать «укэми»? Он сказал, что если он вас подведет, тогда, по крайней мере, вы будете в состоянии защититься, упасть без травмы и снова встать на ноги.
Несмотря на обстоятельства, я был поражен цепкостью ее памяти. Мне казалось, что она могла бы повторить все, что я ей рассказал.
– Вот что он вам завещал. А не вашу вину, боль и скорбь, – сказала она, и я знал, что она говорит правду.
Все это время я не видел этой правды, но сейчас мои глаза снова открылись.
Митико взяла мою руку в свои.
– Помните, что вы сказали своей сестре? Разум забывает, но сердце будет помнить всегда. А что такое память сердца, если не сама любовь?
Поначалу я не сообразил, что это было, у меня в глазах забурлил жаркий влажный поток, остудивший, однако, кожу вокруг глазниц. И когда я понял, что это слезы, выработанные с годами привычка и дисциплина заставили меня сделать попытку остановить их, удержать на краях век и не дать им выхода.
Увидев мою борьбу, Митико обеими руками потянулась к моему лицу. Большими пальцами она нарушила дрожащую пленку, и я согласился принять слезы. И они наконец потекли.
Я не издал ни звука, стоя словно статуя в саду Истаны, чувствуя, как из меня изливается поток скорби, и вместе с ним текут образы – то ли забытые воспоминания, то ли вспомненные сны. Я почувствовал, как поднимаюсь вверх, сначала на всю стопу, потом на цыпочки. Лежавшая на футоне Митико дотянулась до меня и схватила за руку.
Я ошибался: груз можно было облегчить, вес можно было уменьшить. Я закрыл глаза надолго, зная, что слезы никогда не вернутся.
Она с усилием встала. В молодости – и до сих пор – она была очень красивой женщиной, но болезнь поставила на ней свое клеймо. Как бы она ни старалась бороться, я чувствовал, что она устала от битвы.
Она достала катану Эндо-сана и положила ее рядом с моей.
– Они всегда должны быть вместе. – Она печально улыбнулась. – Это их судьба.
Она была права. Теперь я видел, чего ждал, настоящую причину, по которой все эти годы хранил свой меч. Я пододвинул мечи ближе друг другу, чтобы они почти соприкасались: Облако и Иллюминация, тень и свет.
Она положила письмо Эндо-сана, то письмо, что привело ее ко мне, на татами.
– Вы так его и не прочитали.
Я не отрывал от него глаз, пока плетение татами не заплясало волнами перед моим неподвижным взглядом. Я отвел глаза и наконец сказал:
– Не думаю, что хочу знать, что в нем. Наверное, мне пора его отпустить.
Я помог Митико подойти к двери, и она прислонилась к косяку. Я указал ей на землю под деревом, где я похоронил Эндо-сана.
– Я не поставил ни знака, ни надгробия. Когда меня не станет, никто никогда не узнает, где он лежит.
Все ее внимание обратилось к безымянной могиле, и на миг, быстрый, как камень, пролетающий над гладью озера прежде, чем пойти ко дну, я увидел воспоминание ее любви к Эндо-сану.
Она рыдала у меня на руках. Мы чувствовали его присутствие, чувствовали, как нас обнимают его руки, – и впервые с окончания войны, полвека спустя, я понял, что мы наконец-то обрели мир. Больше ничто не могло причинить нам вред.
Я принял приглашение Исторического общества Пенанга посетить прием, посвященный пятидесятой годовщине окончания японской оккупации, который должен был состояться в резиденции губернатора Пенанга. С объявления независимости в пятьдесят седьмом году этот пост занимала череда малайских и китайских назначенцев. Правление англичан осталось только в теплых воспоминаниях.
За несколько дней до приема мне позвонила секретарь общества и спросила, не смогу ли я передать им в дар какой-нибудь предмет, напоминающий о войне. Я ответил, что подумаю, что можно сделать.
Я сообщил Адель и всему штату сотрудников «Хаттон и сыновья», что нашел подходящего покупателя для своей семейной компании и что их трудоустройству ничто не угрожает, потому что это стало одним из условий сделки. Рональд Кросс, теперь возглавлявший «Эмпайр-трейдинг», который после войны вернулся из Австралии, чтобы принять бразды правления у Генри Кросса, был очень заинтересован в расширении семейного предприятия для своих внуков. Я был уверен, что Рональд, проживший на Пенанге всю жизнь, с уважением отнесется к памяти всех Хаттонов, связанных с мечтой моего прадеда.
После объявления Адель вошла ко мне в кабинет и обняла меня.
– Я буду ужасно по вам скучать.
– Вам нужно выйти на пенсию, – ответил я.
Мне вспомнилось, что она ненамного моложе меня.
– И что я буду делать? Сидеть дома и нянчить внуков? – При этой мысли ее передернуло, и я рассмеялся.
– На завершение продажи уйдет несколько месяцев. Я по-прежнему буду жить на Пенанге. Я никогда не уеду. Приезжайте ко мне в Истану в любое время.
Она отстранилась.
– За все эти годы вы впервые пригласили меня в гости.
– Мне давно нужно было это сделать.
* * *
На празднование годовщины пришли все, кто сражался на войне, все, кто еще был жив. Это было странное сборище: в основном старики, встретившие друзей, возможно, в последний раз. И поэтому, когда они с нежностью вспоминали о выходках и причудах умерших друзей и потерянных возлюбленных, их голоса были громче, смех – раскатистее, а слезы – горше, но радостнее, чем в предыдущие годы. Я обошел застекленный стенд с коллекцией керисов моего отца, которую я передал в дар Историческому обществу Пенанга от его имени. Кроме них, здесь была выставка памятных предметов и документов военной эпохи. Мое внимание привлекла выцветшая фотография, к которой я подошел.
На фото был молодой парень европейской внешности, как мне показалось, чуть ли не мальчик, стоявший в ряду суровых японских чиновников, наблюдая за подъемом японского флага. Среди них он казался потерянным и не в своей тарелке, но на его лице читались сила и решимость. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что этим молодым человеком был я сам. Я попытался найти Эндо-сана, но его давно вырезали из снимка.
Президент Исторического общества Пенанга в довольно длинной речи поблагодарил господина Филиппа-Арминия Кху-Хаттона за усилия по защите исторического наследия острова и за щедрость, поскольку он передал Обществу пару бесценных образцов оружейного мастерства. Впервые в жизни попросив использовать свое полное имя, я пережил миг изумления– чуть ли не повернулся посмотреть, о ком это говорят, – а затем подошел к подиуму и передал президенту мечи Нагамицу. Под светом прожекторов казалось, что в них нет ничего примечательного. Щелкнуло несколько фотовспышек, и я отпустил мечи, молча с ними попрощавшись.
Дома я не отправился спать, а вместо этого вышел к своей одинокой казуарине. Я достал нефритовую булавку деда, которую не снимал с той минуты, как он мне ее подарил. Она лежала на таинственных линиях ладони, прохладная и невесомая, и я подумал о своей жизни, обо всем, что со мной случилось, и о каждом, кого я знал.
В этот вечер на приеме было много и тех, кто продолжал считать, что во время войны я был другом японцев, и тех, кто знал о бесчисленных жизнях, которые я помог спасти. Но, в конце концов, какое это имело значение? Скоро все эти люди, как и я сам, превратятся в пепел воспоминаний, чтобы подняться в небо и покинуть этот мир.
Прорицательница, давным-давно умершая, сказала, что я был рожден с даром дождя. Теперь я понимаю, что это значит. Ее слова не были проклятием, но и благословением тоже не были. Подобно дождю, я многим принес несчастье, но даже чаще дождь приносит облегчение, ясность и обновление. Он смывает боль и готовит к новому дню, даже к еще одной жизни. Состарившись, я обнаружил, что дожди следуют за мной и приносят мне утешение, словно души всех, кого я знал и любил.
В тот вечер, впервые услышав свое имя, свое полное, дорогое имя, данное мне обоими родителями и дедом, я испытал чувство целостности и полноты, которое всю жизнь от меня ускользало. С осторожностью бабочки, влетающей в грезы почтенного китайского философа и садящейся на самый нежный из лепестков, это чувство искало и нашло во мне постоянный приют, навеки успокоив пустое эхо спящего сердца.
Ночь была такой звездной, а море таким темным, что я не мог различить, где океан сходился с небом. Остров Эндо-сана, такой тихий, ждал меня, как ждал еще до моего рождения. Я знал, что пришло время провести на нем остаток своих дней. И я с нетерпением это предвкушал.