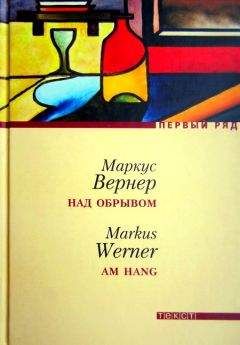Апрельский день был мягким, ясным, и бедный Денкомб, обрадованный иллюзией вновь обретенных сил, стоял в гостиничном садике и неторопливо, с примесью вялости, размышлял о прелестях легкой прогулки. Ему нравилось чувствовать по-северному сдержанное присутствие юга; нравились песчаные обрывы и сосновые пятна на них; ему даже нравилось бесцветное море. Борнмут мог сойти за оздоровительный курорт разве только на рекламном объявлении, но теперь Денкомб был рад и самому незамысловатому пристанищу. Общительный деревенский письмоноша, проходивший через сад, только что вручил ему маленький пакет, который Денкомб взял с собой. Оставив гостиницу по правую руку, он поковылял к давно облюбованной скамье, верному убежищу над обрывом. Скамья смотрела на юг, на бледные бока Острова; сзади ее защищало покатое плечо откоса. Добравшись до скамьи, он ощутил усталость. На минуту им овладело разочарование: конечно, он чувствовал себя лучше, но лучше, чем когда? Ему уже не превзойти того Денкомба, каким он был в великие минуты своего прошлого. Бесконечная жизнь миновала, и все, что осталось от его доли, — это по-аптекарски отмеренная мелкая склянка. Он сидел и смотрел на море, плоское, мерцающее, такое мелкое в сравнении с человеческим духом. По-настоящему глубокой, необнажаемой была лишь бездна людских иллюзий. Присланный издателем пакет он держал на колене нераспечатанным. Сейчас, когда так много радостей недоступно ему, когда болезнь заставила почувствовать возраст, — мысль о том, что пакет здесь, у него, доставляла удовольствие. Денкомб заранее готов был к тому, что когда увидит себя «выпущенным», юношеский восторг не возродится в нем с прежней силой. Писатель с именем, Денкомб издавался нередко и заранее знал свои ощущения.
Появившаяся внизу группка — две дамы и молодой джентльмен — дала Денкомбу повод еще промедлить с пакетом. Молча и вразброд они шли по дюнам. Джентльмен склонял голову над книгой; время от времени он останавливался, поглощенный чтением. Книжный переплет, как Денкомб разглядел даже на таком расстоянии, был пленительно красным. Спутницы джентльмена, ушедшие вперед, поджидали, пока тот поравняется с ними. Они воткнули зонты в песок и оглядывали море и небо, любуясь красотой дня. Тем контрастнее проявлялось равнодушие к природе у молодого человека с книгой; мешкотный, легковерный, увлеченный, он вселял зависть в наблюдателя, связь которого с литературой давно лишилась подобной непосредственности. Одна из дам была крупной и в возрасте; другую отличали моложавость и, по всей видимости, подчиненное положение. Облик крупной дамы напомнил Денкомбу о веке кринолинов; дама носила шляпу, украшенную голубой вуалью. Казалось, что она, не без удалой агрессивности, сохраняет верность устаревшей моде или безвозвратному прошлому. Вскоре ее спутница извлекла из складок накидки мягкое переносное кресло, распрямила, и крупная дама воссела на него. Благодаря этой сцене, как равно и жестам обеих дам, тотчас обозначились их роли, — ведь они актерствовали ему на потеху: имущая матрона и скромная приживалка. Чем еще, как не умением определить связь между героями, может отличиться именитый романист? Весьма неглупое предположение: молодой человек приходится имущей матроне сыном, а скромная приживалка, дочь священника или офицера, питает к нему тайную страсть. Разве не видно, как она прячется за спину покровительницы, чтобы тайком бросить на него взгляд? -посмотреть туда, где он остановился, пока мать его присела отдохнуть. Книга в руках юноши была романом в дешевом ярком переплете; романтика самой жизни стояла незамеченная подле него, а он искал романтики в библиотеках. Юноша механически подался туда, где песок был мягче, и даже поворошил его, чтобы с удобством закончить главу. Скромная приживалка, расстроенная его отдалением, понуро побрела в другую сторону, а пышная леди, наблюдавшая за волнами, приобрела смутное сходство с разобранным летательным аппаратом.
Когда действо себя исчерпало, Денкомб вспомнил, что у него, в конце концов, есть собственное развлечение. Хотя такое проворство со стороны издателя и редкость, сегодня Денкомб уже мог извлечь из обертки свою «свежую», а может быть, и последнюю. Обложка «Зрелых лет» была вполне достойной, в запахе страниц улавливался аромат вечности. Денкомб на минуту замер: он вдруг почувствовал странное отчуждение. Он забыл, о чем эта книга. Неужели приступом застарелого недуга, на который он тщетно искал управы в Борнмуте, напрочь было стерто его прошлое? Он закончил редактуру перед отъездом из Лондона, но последующие две недели вычеркнули из памяти все. Денкомб не мог напеть себе ни одного предложения, не мог найти — с любопытством или уверенностью — ни одной памятной страницы. Предмет книги ускользнул от него бесследно. Вдохнув холодной темной пустоты, Денкомб издал глухой стон, — таким безнадежно близким показался ему зловещий финал. Его кроткие глаза наполнились слезами; что-то драгоценное покинуло его. Жало утраты язвило его несколько последних лет — чувство отступающего времени, упущенных возможностей; он чувствовал: счастье не сейчас уходит от него, оно уже ушло. Он сделал все, что был должен, но не сделал того, что хотел. Ощущение конца пути мучило его, тисками сжимая горло. Охваченный ужасом, он порывисто поднялся со скамьи и тотчас беспомощно осел. Нервно раскрыл свою книгу. Один том: Денкомб предпочитал однотомники и, как немногие, стремился к сжатому письму. За чтением он мало-помалу успокоился и вновь обрел уверенность. Все вернулось к нему, вернулось и изумление, и, прежде всего, ощущение высокой и могущественной красоты. Он читал собственную прозу, перелистывал свои страницы; сидя на весеннем солнцепеке, он был объят редкими по насыщенности эмоциями. Его карьера несомненно завершена, но завершилась она, в конце концов, этим.
За время болезни он позабыл работу прошлого года; но, главное, позабыл, сколь необычайно хороша она. Денкомб вновь погрузился в сюжет и был увлечен им, словно рукой сирены, туда, где в тусклой преисподней литературы, в застекленном водоеме искусства плавают странные молчаливые предметы. Он вспомнил свой замысел и отдал дань своему дарованию. Никогда еще его талант, в границах, отмеренных Денкомбу судьбой, не достигал такого совершенства. В этой книге он не избежал обычных своих огрехов, но было в ней и мастерство, которое — как понял он, но, увы, не поймет никто другой — их искупало. В той творческой мощи, которой он сейчас удивленно восторгался, брезжила надежда на возможную отсрочку. Эта мощь далеко не исчерпана: в ней есть еще жизнь, она еще послужит. Денкомб нелегко наработал мастерство, добывал его окольными путями, задним умом. Его творческая сила — дитя постепенности, питомец промедлений; как он сражался за нее и страдал, приносил бесчисленные жертвы! Теперь, когда она вызрела, должен ли он отказаться от плодов, должен ли признать жестокое поражение? Денкомб переживал бесконечное очарование доселе неведомого чувства, что усердие vincit omnia[1]. Эта маленькая книга в какой-то мере вышла за пределы его замысла: как будто он посеял семена, доверился своей методе, и теперь дар его окреп и сладостно расцвел. Но путь к нынешним достижениям, хотя и бесспорным, оказался весьма болезненным. Сегодня он ясно видел, и это мучило его, словно гвоздь, вбитый в тело, что только теперь, в самом конце, вступил он во владение своим даром. Его писательское развитие было ненормально медленным, чуть ли не гротескно постепенным. Ему препятствовал и чинил задержки опыт; он подолгу останавливался, чтобы нащупать свой путь. Слишком много жизни он потратил, воплощая слишком малую толику своего мастерства. Мастерство пришло, но пришло под конец. При таком ритме первая жизнь оказалась чересчур короткой — ее хватило только, чтобы собрать материал; чтобы плодоносить, нужен второй век, нужно продолжение. О нем-то и кручинился Денкомб. Переворачивая последние страницы, он бормотал: «Еще одна попытка, еще один шанс».
Трое, приковавшие его внимание к пескам, исчезли и появились снова; они шли по искусственно проложенной пологой тропинке, что вела на вершину утеса. Скамья Денкомба помещалась на уступе на полпути к вершине, и крупная леди, массивное хаотичное существо со смелыми черными глазами и мягкими розовыми щеками, задержалась у скамьи отдохнуть. На ней были грязные краги и огромные бриллиантовые серьги; на первый взгляд она казалась вульгарной, но это впечатление нарушал приятный открытый тон ее голоса. Она расправила юбки, опустившись на край скамьи, а ее компаньоны остановились невдалеке. Молодой человек носил золотые очки, через которые он, все еще закладывая пальцем свою книгу в красной обложке, вперился в покоящийся на коленях Денкомба том в переплете того же цвета и оттенка. Мгновение спустя Денкомб почувствовал, что сходство томов ошеломило молодого человека: тот узнал золотую эмблему на малиновой материи, увидел, что кто-то читает «Зрелые годы» одновременно с ним. Незнакомец был удивлен, даже раздражен, что не ему одному достался свежий экземпляр. Взгляды обоих собственников встретились на миг, и Денкомб принял то же выражение изумления, что и его соперник и, как можно было догадаться, поклонник. Каждый признался себе, что возмущен, — оба, казалось, говорили: «Черт побери, он уже заполучил ее? Наверняка, он — критик, из свирепых». Денкомб передвинул свой экземпляр из поля зрения незнакомца, а полная матрона, вставая, прервала молчание: «Этот воздух пошел мне на пользу!»