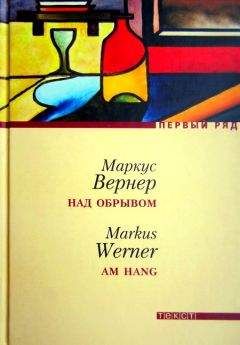В гостинице слуга настоял, чтобы Денкомб вернулся в постель. Больной говорил о поезде, велел укладывать вещи, но затем его расстроенные нервы не выдержали, и он поддался недугу. Он согласился на визит своего врача, за которым тотчас же послали, но твердо дал понять, что его двери бесповоротно закрыты для доктора Хью. У него появился план, такой тонкий, что Денкомб, уложенный в кровать, еще долго восторгался им: доктор Хью, внезапно обнаружив, что его безжалостно осадили, естественным образом оскорбится и восстановит лояльность к графине — на радость мисс Вернхам. От прибывшего врача Денкомб узнал, что у него лихорадка и что это очень скверно: он должен сохранять спокойствие и, насколько возможно, не думать. Остаток дня Денкомб посвятил безмыслию; но ему не давала забыться одна рана — он принес в жертву свою «отсрочку», положил предел собственной жизни. Его врач был весьма удручен: рецидивы болезни выглядели все более угрожающими. Он наказал своему подопечному бестрепетно выбросить доктора Хью из головы — это будет ох как полезно для его спокойствия. Волнующее имя более не произносилось в комнате больного; но все его благополучие зиждилось на подавляемом страхе, и страх этот не ослабел, когда в десять часов вечера слуга Денкомба прочел хозяину лондонскую телеграмму за подписью мисс Вернхам. «Умоляю Вас использовать свое влияние, чтоб заставить нашего друга присоединиться к нам в Лондоне завтрашним утром. Графине хуже от ужасной дороги, но все еще можно спасти». Две дамы собрались с силами и мстительно переломили ход событий. Они отправились в столицу, и если старшая из них и была тяжело больна, как заявляла мисс Вернхам, то это не убавило в ней безрассудности. Бедный Денкомб, который не был безрассудным и хотел только того, чтобы все было «спасено», переправил это послание прямиком в квартиру молодого человека, а на следующее утро с удовлетворением узнал, что доктор покинул Борнмут ранним поездом.
Два дня спустя он вырвался в Борнмут с литературным журналом в руках. Доктор вернулся, будучи озабочен состоянием друга и ради удовольствия показать больному большой обзор «Зрелых лет». Статья была на высоте — наконец-то она отвечала масштабу книги, была одобрением, подобающим возмещением, попыткой критика поместить писателя на заслуженный пьедестал. Денкомб покорился и принял дар; он не возразил, не предложил никакого вопроса, ибо тягостные соображения вновь настигли его, и он провел два мрачных дня. Теперь писатель был убежден, что никогда не покинет постели, что его состояние извиняет присутствие молодого друга и что терпение его соперников будет уязвлено самым умеренным образом. Доктор Хью побывал в Лондоне, и Денкомб пытался найти в его взгляде подтверждение тому, что графиня успокоена и будущность молодого человека обеспечена; но все, что писатель видел, — это лишь блеск юношеской радости от двух-трех газетных фраз. Денкомб не мог пробежать их глазами, но после того как его посетитель настоял на повторном чтении, больному хватило сил, чтобы покачать незатуманенной головой:
— Ах, нет, эти слова — о том, что я мог бы написать.
— То, что мы «могли бы сделать», это, как правило, то, что мы сделали, — возразил доктор Хью.
— Как правило, это так, но я был так глуп! — ответил Денкомб.
Доктор Хью остался; конец был близок. Двумя днями позже больной заметил ему, едва облекая свои слова в форму шутки, что теперь нет и речи о втором шансе. Молодой человек застыл, затем воскликнул:
— Почему это случилось так? — случилось так! Второй шанс принадлежит публике — шанс найти верный подход, подобрать жемчужину.
— Ах, жемчужину! — тяжело вздохнул бедный Денкомб. Улыбка, холодная, как зимний закат, заиграла на его искаженных усилием губах, когда он добавил:
— Жемчужина — в ненаписанном; жемчужина — в незамутненном, в несозданном, в утерянном!
С этого часа он становился все более и более безучастным, равнодушным ко всему, что происходило вокруг. Его болезнь определенно была смертельной, а действие ее после краткой передышки, когда он встретился с доктором Хью, стало неудержимым, словно течь в большом корабле. Он безвозвратно погружался, а его гость, человек незаурядных способностей, теперь уже сердечно принятый домашним врачом, проявлял редкую искусность, ограждая Денкомба от боли. Денкомб не выказывал ни внимания, ни небрежения; не выражал ни сожаления, ни каких-либо мнений. Все же перед концом он дал понять, что заметил двухдневное отсутствие доктора Хью, — открыл глаза и задал вопрос, провел ли доктор эти дни у графини?
— Графиня умерла, — ответил доктор Хью. — Я знал, что ее организму не перенести такого состояния. Я ходил на ее могилу.
Денкомб расширил глаза:
— Она оставила вам деньги?
Молодой человек издал смешок, почти неуместный у смертного одра:
— Ни пенни. Она прямо прокляла меня.
— Прокляла вас? — простонал Денкомб.
— За то, что я отказался от нее. Я отказался ради вас. Я должен был выбирать, — объяснил собеседник.
— Вы дали наследству уйти?
— Я решил принять последствия своего увлечения, какими бы они ни были, — улыбнулся доктор Хью. Затем, с большей шутливостью, добавил:
— Черт с ним, с наследством! Это вы виноваты, что я не могу выбросить из головы ваши творения.
Немедленным откликом на его юмор был стон замешательства; после этого много часов, много дней Денкомб пролежал недвижно, безучастно. Такой самоотверженный шаг, такой блестящий результат, такая честь — все это соединилось в его разуме и, произведя необычное потрясение, медленно подточило и преобразило его отчаяние. Ощущение холодного погружения оставило его — ему показалось, что он сам может держаться на поверхности. Случай этот был невероятным знаком, он пролил свет на всю его жизнь. Наконец Денкомб показал, что хочет говорить, и, когда доктор Хью встал на колени у его подушки, поманил его ближе.
— Из-за вас я подумал, что все это мираж.
— Только не ваша слава, мой дорогой друг, — пробормотал молодой человек.
— Моя слава — что в ней! Слава в том, чтобы подвергаться испытаниям, сохранять свои черты, сотворить маленькое чудо. Слава в том, что кто-то заботится о тебе. Вы, разумеется, сумасшедший, но это не опровергает правила.
— Ваша жизнь удалась! — сказал доктор Хью, и в его голосе прозвучал звон свадебного колокола.
Денкомб лежал, впитывая эти слова. Он набрался сил, чтобы заговорить вновь.
— Второй шанс — вот обман. Шанс есть только один. Мы трудимся впотьмах — мы делаем, что в наших силах, — мы отдаем, чем владеем. В наших сомнениях — наша страсть, и в нашей страсти — наш удел. Все остальное — безумие искусства.
— Если ты сомневался, если отчаивался — ты творил, — еле слышно возразил его гость.
— Все мы творим — так или иначе, — уступил Денкомб.
— Так или иначе — это все, что нам доступно. Вы достигли всего!
— Притворщик! — иронически выдохнул бедный Денкомб.
— Но это правда, — настаивал друг.
— Это правда. Разочарование не в счет.
— Разочарование — это жизнь, — сказал доктор Хью.
— Да, и она проходит.
Бедного Денкомба было едва слышно, но этими словами он отметил конец своего первого и единственного шанса.
1893
Перевод с английского Виктора Купермана
Опубликовано в журнале Солнечное Сплетение №14-15
Побеждает все (лат.). — Примеч. перев.
Кто спит, обедает (фр.). — Примеч. перев.
Пастушка (фр.). — Примеч. перев.