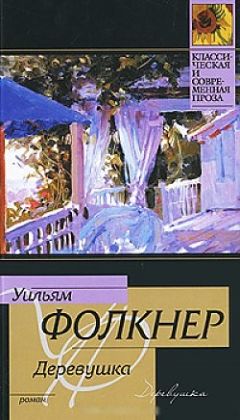Уильям Фолкнер
ДЕРЕВУШКА
Роман
Перевод В. Хинкиса и С. Маркиша.
Перевод под редакцией Р. Райт-Ковалевой.
Французова Балка лежала в тучной речной долине, в двадцати милях к юго-востоку от Джефферсона. Укрытая и затерянная меж холмами, определенная, хоть и без четких границ, примыкающая сразу к двум округам и не подвластная ни одному из них, Французова Балка была когда-то пожалована своему первому владельцу, и до Гражданской войны выросла в огромную плантацию, остатки которой — полый остов громадного дома, рухнувшие конюшни, невольничьи бараки, запущенные сады, аллеи, кирпичные террасы — все еще звались усадьбою Старого Француза, хотя прежние ее границы существовали теперь только в старинных, пожелтевших записях, хранившихся в архиве окружного суда в Джефферсоне, и плодородные поля кое-где давно уже снова заполонила тростниковая и кипарисовая чащоба, у которой они были некогда отвоеваны их первым хозяином.
Возможно, что он и в самом деле был иностранец, хотя и не обязательно француз, потому что для людей, которые пришли после него и почти начисто стерли все его следы, всякий, кто говорил с малейшим чужеземным акцентом, чья наружность или даже занятие казались необычными, всякий такой человек был французом, к какой бы национальности он себя ни причислял, точно так же, как городские умники в ту пору (вздумай он, к примеру, обосноваться в самом Джефферсоне) непременно окрестили бы его голландцем. Но теперь никто уже не знал, откуда он был родом, даже шестидесятилетний Билл Уорнер, который владел чуть ли не всей прежней плантацией вместе с участком под разрушенной усадьбой. Потому что он пропал, исчез, этот чужеземец, этот француз, со всей своей роскошью. Его мечта, его бескрайние поля были поделены на маленькие, чахлые фермы, заложенные и перезаложенные, и управляющие джефферсонскими банками грызлись из-за них, прежде чем продать, и, в конце концов, продавали Биллу Уорнеру, и теперь от Старого Француза только и осталось что речное русло, выпрямленное его невольниками на протяжении почти десяти миль, чтобы река в половодье не затопляла поля, да скелет громадного дома, который его многочисленные наследники целых тридцать лет разбирали и растаскивали; ореховые ступени и перила, дубовые паркеты, которым через пятьдесят лет цены бы не было, и самые стены — все пошло на дрова. Даже имя его было позабыто, слава его обернулась пустым звуком, легендой о земле, вырванной у лесной чащи, укрощенной, увековечившей позабытое прозвище, которое то, что явились после него — приехали в разбитых фургонах, верхом, на мулах или пришли пешком, с кремневыми ружьями, собаками, детьми, самогонными аппаратами и протестантскими псалтырями, — не могли ни произнести правильно, ни даже прочесть по буквам и которое теперь не напоминало ни об одном человеке на свете; его мечта, его гордость стали прахом и смешались с прахом его бог весть где лежащих костей, да еще молча упорно сохраняла предание о деньгах, которые он будто бы зарыл где-то около своего дома, когда Грант опустошал эти края, двигаясь на Виксбург.
Люди, которые наследовали ему, пришли с северо-востока, через горы Теннесси, отмеряя каждый свой шаг на этом пути рождением нового поколения. Они пришли с Атлантического побережья, а до того, — из Англии и с окраин Шотландии и Уэллса, чему свидетельством иные фамилии — Тэрпины, Хейли, Уиттингтоны, Макколлемы и Мюррэи, Леонарды и Литтлджоны, да и другие тоже, вроде Риддепов, Армстидов и Доши, которые не могли появиться сами собой, потому что по доброй воле никто, конечно, не взял бы себе такую фамилию. При них не было ни невольников, ни шифоньеров работы Файфа или Чиппендейла; почти все, что было при них, они могли принести (и принесли) на своих плечах. Они заняли участки, выстроили хижины в одну-две клетушки и не стали их красить, переженились, наплодили детей и пристраивали все новые клетушки к старым хижинам, и их тоже не красили, и так жили. Их потомки так же сажали хлопок в долине и сеяли кукурузу по скатам холмов и на тех же холмах, в укромных пещерах, гнали из кукурузы виски и пили его, а излишки продавали. Федеральные чиновники приезжали сюда, но уже не возвращались. Кое-что из вещей пропавшего — войлочную шляпу, сюртук черного сукна, пару городских ботинок, а то и пистолет, — иногда видели потом на ребенке, на старике или женщине. Окружные чиновники и вовсе не тревожили этих людей, разве только по необходимости в те годы, когда предстояли выборы. У них были свои церкви и школы, они роднились друг с другом, изменяли друг другу и убивали друг друга, и сами были себе судьями и палачами. Они были протестантами, демократами и плодились, как кролики. Во всей округе не было ни одного негра-землевладельца, а чужие негры боялись и близко подойти к Французовой Балке, когда стемнеет.
Билл Уорнер, нынешний хозяин усадьбы Старого Француза, был самым важным человеком в этих краях. Он имел больше всех земли, был школьным инспектором в одном округе, мировым судьей в другом и уполномоченным по выборам в обоих, а стало быть, от него исходили если не законы, то, по крайней мере, советы и внушения для его земляков, которые отвергли бы самое понятие «избирательного округа», если бы когда-нибудь о нем слышали, и приходили к Биллу Уорнеру спросить не «что мне делать?», а «что бы вы мне велели сделать, ежели б могли заставить меня сделать по-вашему?». Он был землевладельцем, ростовщиком и ветеринаром. Судья Бенбоу из Джефферсона однажды сказал про него так: человек он с виду мягкий, но никто лучше его не умеет пустить мулу кровь или собрать больше голосов на выборах. Он владел почти всеми лучшими землями и держал закладные почти на все земли, которыми еще не владел. В самой деревне ему принадлежала лавка, хлопкоочистительная машина, мельница с крупорушкой и кузня, и считалось, мягко говоря, опрометчивостью, если кто по соседству делал закупки, или очищал хлопок, или молол зерно, или ковал лошадей и мулов где-нибудь в другом месте. Он был тощий и длинный, как жердь, с рыжеватыми, тронутыми сединой, волосами и усами, с маленькими, жесткими, блестящими, невинно голубыми глазами; он походил на директора методистской воскресной школы, который по будням служит проводником на железной дороге, или же наоборот, и которому принадлежит церковь или, может, железная дорога, а может, то и другое вместе. Он был хитер, скрытен и жизнелюбив, с раблезианским складом ума и, весьма вероятно, все еще не иссякшей мужскою силой (он сделал своей жене шестнадцать детей, но только двое жили дома, прочие же, плодясь и в землю ложась, разбрелись кто куда, от Эль-Пасо до Алабамы), о чем позволяла судить его жесткая шевелюра, в которой даже в шестьдесят лет было больше рыжих, чем седых волос. Он был разом и ленив и энергичен; он ничего не делал (всеми делами управлял его сын), и на это уходило все его время, он исчезал из дому еще до того, как сын успевал спуститься к завтраку, и никто не знал куда, знали только, что он на своей старой, жирной белой кобыле может появиться когда и где угодно на десять миль окрест, и, по крайней мере, раз в месяц, весной, летом и ранней осенью, люди видели, как он, привязав свою старую белую кобылу к ближайшей загородке, сидит на самодельном стуле посреди запущенной лужайки в усадьбе Старого Француза. Стул ему смастерил кузнец, распилив пополам пустой бочонок из-под муки, обровняв края и приколотив сиденье, и Уорнер, жуя табак или покуривая тростниковую трубку, всегда с острым словцом для прохожего наготове, в меру любезным, но отнюдь не располагающим к беседе, сидел на фоне этого былого величия. Люди (те, что сами видели его там, и те, что слышали об этом от других) все были уверены, что он сидит, обдумывая наедине, как бы лишить очередного должника права на выкуп закладной, потому что причину он объяснил только Рэтлифу, агенту по продаже швейных машин, который был более чем вдвое моложе его.
— Люблю здесь сидеть. Стараюсь представить себя на месте того дурака, который все это наворотил, — он не пошевелился, даже не дал себе труда кивком головы указать на груду битого кирпича и лабиринт дорожек, увенчанный руинами колоннады у него за спиной, — только чтобы есть да спать в этакой громадине. — А потом добавил, так и не объяснив Рэтлифу, о чем он на самом деле думал: — Одно время я не прочь был со всем этим разделаться, расчистить место. Но, боже ты мой, народ до того обленился, что даже на лестницу не залезет, чтобы отодрать остатки досок. Да они скорее пойдут в лес, целое дерево срубят на растопку — это им проще, чем протянуть руку да взять готовое. Пожалуй, я просто оставлю все как есть: пусть напоминает мне об единственной моей ошибке. Ведь за всю мою жизнь только это одно я купил и не сумел никому продать.