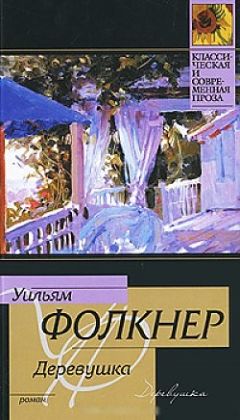Его сыну Джоди было под тридцать; уже полнеющий, с первыми признаками зоба, он не только не женился, но от него исходил какой-то холостяцкий дух, как от некоторых людей будто бы исходит дух святости. Он был высокого роста, с намечавшимся брюшком, которое в ближайшие десять — двенадцать лет обещало изрядно вырасти, но пока он мог еще считаться свободным и сравнительно молодым кавалером. Зимой и летом, по воскресеньям и по будням, он носил крахмальную сорочку без воротничка, схваченную у шеи тяжелой золотой запонкой, и пару из добротного черного сукна (правда, в жаркое время года он обходился без сюртука). Он надевал эту свою пару, как только она приходила от портного из Джефферсона, и носил ее каждый день, в любую погоду, до тех пор, пока не продавал кому-нибудь из работников-негров, заменяя новой, следующей, так что летом чуть ли не во всякий воскресный вечер можно было встретить — и немедленно опознать — какую-нибудь из его старых пар (или одну из ее частей). Среди неизменных комбинезонов, которые носили все вокруг, он имел вид не то чтобы похоронный, но весьма торжественный, а все потому, что выглядел таким убежденным холостяком: за его дряблыми, расплывающимися телесами угадывался бессмертный и вечный свадебный Шафер, совершеннейшее воплощение Мужского Естества, точно так же, как под отечными тканями бывшего футболиста угадываешь призрак поджарого и крепкого спортсмена, некогда гонявшего мяч. В семье он был девятым из шестнадцати детей. Он распоряжался лавкой, владельцем которой по-прежнему был его отец, занимался главным образом просроченными закладными, присматривал за хлопкоочистительной машиной и управлял разбросанными по всей округе фермами, которые сорок лет скупал сперва его отец, а потом они оба.
Однажды после полудня он сидел в давке, нарезая новую хлопковую веревку на гужи и по-морскому свивая отрезанные куски в аккуратные бухты на вбитых в стену гвоздях, а услышав стук у себя за спиной, обернулся и в раме открытой двери увидел человека ниже среднего роста, в широкополой шляпе и слишком просторном сюртуке, — он стоял в странной неподвижности, словно врос ногами в пол.
— Вы Уорнер? — сказал он голосом не то чтобы грубым или, во всяком случае, не нарочито грубым, а скорее скрипучим, словно заржавевшим от редкого употребления.
— Я один из Уорнеров, — сказал Джоди довольно приветливо своим мягким и сильным голосом. — Чем могу служить?
— Моя фамилия Сноупс. Я слышал, у вас сдается ферма.
— Вот как? — сказал Уорнер, отодвигаясь, чтобы свет из окна упал на лицо посетителя. — Где ж вы об этом прослышали?
Ферма была новая, он и отец купили ее с торгов меньше недели назад, а человек был совсем чужой, Джоди даже фамилии этой никогда не слышал.
Тот не отвечал. Теперь Уорнеру было видно его лицо — холодные, мутно-серые глаза под косматыми, седеющими, сердитыми бровями и короткая щетина серо-стальной бороды, густой и спутанной, как овечья шерсть.
— А раньше вы где фермерствовали? — спросил Уорнер.
— На Западе.
Он не говорил отрывисто. Он просто произнес эти два слова с непреклонной бесповоротностью, словно топором отрубил.
— В Техасе, значит?
— Нет.
— Понятно. Значит, к западу отсюда, и все тут. Семья большая?
— Шестеро. — Сказав это, он не замялся, но и не спешил продолжать. И все же что-то осталось недоговоренным. Уорнер почувствовал это прежде, чем скрипучий, безжизненный голос, с расстановкой уточнил: — Сын и две дочки. Жена и свояченица.
— Это только пятеро.
— И я сам, — сказал неживой голос.
— Сам не в счет, когда уговариваешься, сколько рабочих рук будет выставлено на поле. Так как же, пятеро, а может, семеро?
— Могу выставить шестерых.
Голос Уорнера тоже остался прежним — таким же приветливым, таким же ровным:
— Не знаю, стоит ли мне брать арендатора в этом году. Май ведь уже на носу. Пожалуй, я и сам бы справился, вот только поденщиков нанять. А может, и вовсе не стану ее трогать в этом году.
— Согласен и на поденную, — сказал тот.
Уорнер поглядел на него.
— Хотите поскорей устроиться, а?
Тот не отвечал. Уорнер не знал, смотрит на него этот человек или нет.
— Сколько думаете платить аренды?
— А какая ваша цена?
— Треть и четверть, — сказал Уорнер. — Все товары отсюда, из лавки. Наличными ничего.
— Понятно. Товаров на шесть долларов.
Совершенно верно, — приветливо сказал Уорнер. Теперь он не знал даже, смотрит ли этот человек вообще на что-нибудь.
— Согласен, — сказал тот.
Стоя на галерее, над пятью или шестью мужчинами и комбинезонах, сидевшими на корточках или прямо на полу со складными ножами и деревянными чурками в руках, Уорнер смотрел, как его посетитель с трудом доковылял до крыльца, не глядя по сторонам, сошел вниз, отыскал среди привязанных у галереи запряжек и верховых лошадей тощего мула без седла, в драной сбруе с веревочными поводьями, подвел его к крыльцу, неуклюже, с натугой сел верхом и уехал, все так же ни разу не оглянувшись.
— Послушать, как он топочет, можно подумать, что в нем фунтов двести весу, — сказал один из сидевших. — Кто это такой, Джоди?
Уорнер чмокнул, всасывая слюну сквозь зубы, и сплюнул на дорогу.
— Сноупс какой-то, — сказал он.
— Сноупс? — сказал второй. — Вон оно что. Значит, тот самый. — Теперь не только Уорнер, но и все остальные повернулись к говорившему — худощавому человеку в безукоризненно чистом, хотя и выцветшем, заплатанном комбинезоне, и даже свежевыбритому, с лицом кротким, почти грустным — хотя, присмотревшись, на нем можно было заметить два совершенно различных, самостоятельных выражения — одно мимолетное, спокойное и безмятежное, а под ним другое, всегдашнее, явно не терпеливое, хотя и сдержанно озабоченное, с подвижным ртом, свежим и ярким, как у юноши, но, взглянув более пристально, легко было понять, что этот человек, видимо, просто-напросто никогда в жизни не курил: резко выраженный тип мужчины из тех, которые женятся молодыми и производят на свет только дочерей, да и сами вечно остаются на положении старшей дочери у собственной жены. Его звали Талл. Тот самый малый, который зимовал с семьей в заброшенном хлопковом амбаре у Айка Маккаслина. Он еще был замешан в этой истории с поджогом конюшни, которая сгорела два года назад в округе Гренье у какого-то Гарриса.
— Гм, — сказал Уорнер. — Как вы говорите? Поджог конюшни?
— Я не говорю, что это он поджег, — сказал Талл. — Я только говорю, что он был, так сказать, замешан в этом.
— И сильно замешан?
— Гаррис притянул его к суду.
— Понятно, — сказал Уорнер. — Просто возвел на него напраслину, заставил отвечать за другого. Наверно, подмазал кого следует.
— Ничего не доказали. Может, потом Гаррис и собрал доказательства, да было поздно. Его уж и след простыл. А потом, в прошлом году, в сентябре он объявился у Маккаслина. Он с семьей работал на Маккаслина поденно, собирал хлопок, и Маккаслин пустил их перезимовать в старый амбар, который в тот год у него пустовал. Вот и все, что я знаю. А сплетен я не пересказываю.
— И я бы не стал, — сказал Уорнер. — Кому охота прослыть пустым сплетником. — Он стоял над ними, широколицый, добродушный, в потертом, строгом костюме: крахмальная, но заношенная белая сорочка, пузырящиеся на коленях, давно не глаженные брюки, — одетый чопорно и вместе с тем небрежно. Он шумно и отрывисто втянул воздух. — Так-так, — сказал он. — Поджог конюшни. Так-так.
Вечером, за ужином, он рассказал об этом отцу. Не считая неуклюжего, кое-как сколоченного из бревен и досок строения, известного под названием «Гостиница Литтлджон», у Билла Уорнера был единственный двухэтажный дом в этих местах. Уорнеры и кухарку держали — не только единственную черную прислугу, но вообще единственную прислугу во всей округе. Она прожила у них уже много лет, но миссис Уорнер все говорила, — и, видимо, верила, — что ей нельзя поручить даже воду согреть без присмотра. Джоди рассказывал, в то время как его мать, полная, живая, хлопотливая женщина, которая родила шестнадцать душ детей, из которых уже пережила пятерых, и все еще брала призы за свои соленья и варенья на ежегодной ярмарке, сновала между столовой и кухней, а сестра, тихая, полнотелая девочка, с уже округлившейся в тринадцать лет грудью, с глазами, как матовые оранжерейные виноградины, и полным, влажным, всегда чуть приоткрытым ртом, сидела на своем месте, уйдя в себя, в каком-то дурмане цветущей и юной женской плоти, не слушая его, что, как видно, давалось ей без малейших усилий.
— Ты контракт уже подписал с ним? — спросил Билл Уорнер.
— Да я и не собирался, покуда Вернон Талл не рассказал мне, что он натворил. А теперь, думаю, завтра же составлю бумагу и дам ему подписать.