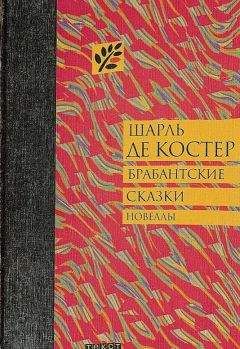— Отчего, — спрашивает молодая женщина, — вот уже неделя прошла, а ты так и не съездил в Брюссель?
— Мне там нечего делать.
— Много ты купил акций на все займы?
— Много.
— А у нас осталось еще немного денег в семейной кассе?
— А зачем?
— Тут вот счета, один из них на тысячу флоринов; издержки на ремонт и расходы по содержанию фермы во Вруве-Полдер, установка умывальника… и так далее. А есть еще одно, оно поинтересней того будет. — Рука Анны дрогнула. — Это прислано от Булса, ювелира, что живет в Брюсселе.
— От Булса? Невероятно!
— Да возьми скорей, а то ты уж побледнел.
— Но ведь это… как?
— Ага, как ко мне попал этот счет. Он был адресован мне, так я письмо и вскрыла. И увидела там счет на двенадцать тысяч франков за драгоценности, которых, не носила; отпирай кассу, платить нужно немедля… отпирай же… когда я тебе ее доверила, в ней было шестьдесят тысяч франков.
— Анна, мне нужно… я должен… послушай, покричи на меня, побей меня, назови кем хочешь, но в кассе у нас нет больше ни гроша…
— Шестьдесят тысяч франков за три месяца!
— Мы продадим ферму.
— Нет. Не хватает четырнадцати тысяч франков, они у меня найдутся. — Анна сходила к себе в спальню. — Вот, — сказала она, высыпая пять тысяч флоринов, — мое приданое, которого ты не захотел принять от отца моего. Вот еще все мои драгоценности, мы продадим их; это бриллиантовое ожерелье одно стоит больше, чем все украшения той женщины…
За драгоценности удалось выручить двадцать три тысячи франков, к которым Исаак с постыдной храбростью присовокупил пять тысяч флоринов приданого Анны.
Дорогая моя, страдалица добровольная, как ты проводишь дни свои? Да знаешь ли ты, что от этого умирают или сходят с ума? Смотри, сегодня будет снегопад; на дворе пасмурно,' и говорят, что холодает. А были бы мы сейчас вместе? Ты представляешь нас вместе? Вот мы выходим вдвоем, ты держишь меня под руку, что за дивный сон! Словно дети, мы смеемся, мы почти бежим, прижавшись друг к другу. Быстро и по — молодому мы пробегаем два десятка улиц, и вот перед нами открываются поля и вольные горизонты. Небо серое, обложное и хмурое; что нам за дело; ведь солнце в нас самих, это наша любовь, озаряющая всю эту печальную картину. Мы идем, мы разговариваем, какая радость! Что за божественная песнь! Сила и красота. Как бескрайня эта равнина: один поцелуй! Нет, что я, это просто мечты мои, я с ума схожу. Да, сегодня грустно, и холодно, я один и ты плачешь».
Прочитав эти несколько строчек, Анна и вправду заплакала. Потом она открыла Библию, прочла несколько строф оттуда, ища покоя, и нашла его самую малость.
Однажды утром Анна сказала Каттау:
— Мне надо придумать способ сделать так, чтобы мой муж привязался к нашему дому.
И способ был найден очень быстро. Начиная с этого дня дом стал похож на настоящий райский уголок, украшенный цветами, населенный птицами, обставленный мебелью самой изысканной выделки. И завтрак, и обед, каждая трапеза превращалась в пиршество. На стол подавались исключительно старые вина и отменные мясные блюда. Как большинство мужчин, Исаак был любителем поесть, каждодневное гастрономическое великолепие так очаровало его, что он стал обходиться с женой куда ласковее.
Анна, уверовав, что добилась успеха, засияла детским счастием; да рановато ей было радоваться. Частенько кухарка, встав на следующее утро, не могла отыскать остатков вчерашнего обеда.
Вдобавок и вертлюги входных ворот, и комнатные затворы, и замок первого этажа, задвижки, ключи и засовы чья-то незримая рука так густо смазывала жиром, что поворачиваясь и отворяясь, они поскрипывали совсем неслышно, словно были не выкованы из железа, а сшиты из шелка.
Падает снег, легкими хлопьями мягко опускаясь на землю; ни шороха, ни ветерка; глубокий покой, невыразимое умиротворение разлиты вокруг; от того, что газовый свет ярко освещает падающие снежинки, фонари словно в ореоле мерцающей ваты; наступает ночь, на всех колокольнях глухо бьет одиннадцать.
Анна выходит из дома, Браф трусит рядом; срывая с руки часы, она ломает на них цепочку, отстегивает браслеты. «Не стоит и вспоминать о нем», — говорит она и хочет выкинуть их в сугроб, как вдруг мимо проходит девица. «Эх, кума-кумушка, — говорит она, — а для моего-то ремесла сегодня погодка скверная». — «Подойди, — отвечает Анна, — я тебе кое-что подарю». — «Подарок, — слышит девица, — а ну поглядим: часы на цепочке, браслеты, кольца, это что же, надеюсь, все не фальшивое?» — «Нет», — уже пройдя мимо нее, бросает Анна. Вся ее шляпка в снегу, на плечах снега намело белым-бело, снежные хлопья так и падают ей на шаль, шелковое платье и туфельки, едва прикрывающие носок. Она почти бежит, рядом трусит Браф. Так доходит она до набережной Трав, до дома, где живет Херманн. Здесь она предполагает укрыться от холода. Она звонит в дверь, никто не открывает. Дрожащая и окоченевшая, она прижимает ухо к замку, стараясь услышать шаги на лестнице, но в ответ ни звука. Дверь заперта, она барабанит по ней кулачками, никто не откликается. Она садится на порожек, терзаясь от догадок — а что, если отец заболел или умер? Холодный пот течет по всему ее телу; в текучих водах Лиса[7] на лодках, на набережной, повсюду чудится ей рой преследующих ее смутных и зловещих образов; «Ах! — говорит она, — и зачем только нужны в домах двери?» Мимо идет лодочник, он возвращается из кабачка. «Что ты тут делаешь, красотка?» — спрашивает он. «Я, стучу, — отвечает Анна, — стучу в дверь отца моего». — «Да он дрыхнет, — отвечает лодочник, — а чтобы разбудить Херманна, когда он дрыхнет, придется трубить в самую звонкую трубу. Хочешь, пойдем ко мне в лодку?» — «Нет, я лучше подожду здесь». — «Как скажешь; тут лежать-то будет жестко, да и постель вся сырая. Спокойной ночи». Лодочник уходит. Анна не находит себе места, прохаживаясь у дома и заглядывая в безмолвные окна, а снег все падает в воды Лиса, шурша глухо и монотонно. Так проходит час. «Терпение, — твердит Анна, призывая на помощь остаток сил, надежд и мужества, — по мне, мучиться от холода лучше, чем страдать от скорби». Но тут черные мысли вновь одолевают ее, и она кричит: «Отец, почему ты никак не проснешься? Ты не слышишь, как ты мне нужен?» Ее одежды промокли до нитки. Вновь она присела на порожек и заколотила в дверь каблучком. Сторожевые псы на лодках давно уже заливались яростным лаем, Браф рычал в ответ. «Замолчи, Браф, — сказала Анна так весело, как только могла, — это их дело такое собачье». На капитанский мостик вышел хозяин — одной из лодок. «Эй, баба, — сказал он, увидев Анну, — иди отсюда, нашла место, где заняться любовью»: он принял Брафа за мужчину. Потом он спустился обратно. Услышав ответный лай, собаки замолчали. Воцарилось безмолвие, тишина стала мертвой. В два часа ночи ветер внезапно переменился с южного на северный, и снежные хлопья сильным тяжелым вихрем застучали в дверь вперемешку с градом. Анна подумала, что сейчас умрет от холода. Вдруг в глаза ей сверкнул медный ошейник Брафа, и она сообразила, что может кинуть его в оконное стекло, тогда Херманн неминуемо проснется. Она уж было решила, что спасена, но ошейник был заперт и открывался только ключом, а ключа у нее не было. Она попробовала снять его через голову собаки — безуспешно. «Камень, — подумала Анна, — вот что было бы еще лучше». Она поискала под ногами, в снегу, нашла черепок от кувшина и запустила им в окно. Прислушиваясь, не шелохнется ли что-нибудь в доме, вдруг увидела, как залаявший Браф пустился бежать к господину, шедшему сюда от церкви Святого Михаила.
— Эй, там! — крикнул этот человек. — Кому это вздумалось побить у меня стекла!
— Мне, батюшка, — радостно ответила Анна. — А откуда ты идешь так поздно? — прибавила она.
— Со свадебного пира, — сказал Херманн. — А ты?
— Из дома, в котором только что распался брак.
— Твой?
— Мой.
— Да так и лучше. Входи, дитя мое.
Когда отец с дочерью вдоволь наобнимались, крепко и от всей души, в очаге уже весело потрескивали поленья, а одежды Анны совсем высохли, Херманн сказал:
— А теперь, дочка, — рассказывай, как тебе привалило такое счастье.
— Слушай же, отец. Сколько времени уже Каттау, видя, что я страдаю, все ходила за мною и, качая головой, то и дело повторяла: «Ах! если б госпожа знала Она теперь живет в Генте». Я лучше нее знала, о чем она хочет сказать мне; Исаак мне изменял. Чтобы вернуть его, я испробовала все: доброту, нежность, ласки, все было безуспешно; я прибегла к наилучшему средству, обустроив домашний уют. Сейчас ты услышишь, чем он отплатил мне за это. Нынче ночью, в одиннадцать, ко мне в спальню вдруг ворвалась Каттау. «Госпожа, — живо произнесла она полушепотом, — она здесь». — «Кто?»