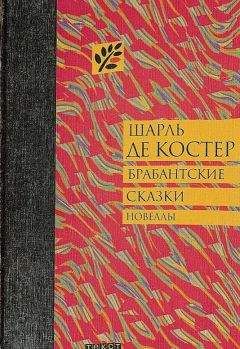Ибо, сударыня, есть высший судия, он главнее вас, и у нас есть еще время подать ему кассационную жалобу.
Да возможно ли, чтобы, зане мир уже четыре тысячи лет как признал правоту стригальщиков перед сгригомыми, и у вас было такое неисчислимое время, чтобы поразмыслить о нашей грядущей судьбе, — чтобы вы пожаловали к нам для того только, чтобы истребить все, что дышит и движется.
Да возможно ли! Чтобы Господь наш всемилостивый отправил вас обобрать гусениц со старого древа жизни, подрезать ему ветви, срубить ствол, вырвать корни его. Не может быть, не может бьггь, я должен веровать в то, что вы справедливы.
Да понимаете ли вы, что станется с миром, поступи вы так? Благоволите дать нам позволение объяснить вам: все перед смертью будут гореть в одном неугасимом пожаре и каждый почувствует с уверенностью, что самые крепкие представления о правде и праведности ниспровергнуты в сердце его. Ибо получится так, что добро перед лицом Господа имеет ту же цену, что и зло, и можно жить и в добре и во зле, какая кому взбредет прихоть. Земной мир наш стал бы тогда зрелищем, какое представлял он собою до года 1000, когда, как говаривали, должен был разрушить его до основания огненный смерч. Простые сердцем поспешат прежде всего раздать свое имущество монахам, а тем оно и незачем будет, ибо общая участь не минет и их. Молодые и старые, блаженные и болезные, все станут торопиться пожить еще. Мир, опьянев от ужаса, высыпет на улицы, чтобы осквернить себя неслыханным развратом, и по обнаженным ногам девственниц, потерявших стыд, потекут пурпурные ручейки вина. Напьются все до полного положения риз. Старые скупердяи, вылезшие из своих нор, вынося и накопленные богатства, пожелают напоследок повеселиться как следует и умрут на первой же оргии.
Мудрецы и девы, став сатирами и вакханками, примутся непристойно потрясать тирсами[8] в общественных местах: Псам будет стыдно за род человеческий.
Уж наверное, сударыня, не эту судьбу приуготовляете вы для нас, ибо, сами понимаете, не в том суть, чтобы перепахать поле, и не в том, чтобы солью засеять, а в том, чтобы плевелы из него повырвать.
Вот, как нам кажется, кого надо бы изничтожить:
Первым делом крота и сову, и без всякой пощады; эти два дружка прекрасно спелись, оба злые, лицемерные, скрытные, и оба живут лишь в сумерках, а света на дух не выносят. Подумайте насчет них, сударыня.
Мак сам по себе и красив, и румян, и держится молодцом, да тут бы, и дело с концом — но ведь горько ошибается он, полагая себя благороднее соседа, пшеничного колоса. Из одного приготовляют хлеб, а от другого только и проку что крепкий сон. Один — пошлый денди — коммерсант, ведь нутро у него пустое, а другой полон сноровки и вкуса. Не то чтоб я недолюбливал или ненавидел маков цвет, но если зарастет им все поле, так они растущим колосьям-то главная помеха, и посему не соблаговолите ли вы их совсем и выполоть?
У нас тут проживает много честных бобров; кротких и трудолюбивых. Не трогайте их, сударыня, мы вас умоляем. Однако есть среди них некоторые, что втайне собираются на сходки, где строят планы ни больше ни меньше как объявить войну не на жизнь, а на смерть всем жаворонкам, соловьям и зябликам, то есть всем артистам и всем поэтам. Кое-кто, освирепев донельзя, предлагал даже скосить все цветы на земном шаре. Утверждают они, что песни и цветы практической пользы никакой не приносят, а только зря им досаждают. Присмотритесь к этим злопыхателям. Кто знает, как далеко может зайти ярость какого-нибудь бобра, которому досадили песни и цветы.
В наших лесах водится множество неизвестно откуда прилетевших попугаев с разноцветным оперением. Что ни споет жаворонок или соловей, они туг же передразнивают, и-одному Богу ведомо, как так получается, что нежные звуки превращаются у них в писклявый металлический скрежет. Птицы, сударыня, совокупно шлют вам смиренное ходатайство с просьбой избавить их от этих, с позволения сказать, ученых критиканов, педантов и плагиаторов.
Не знаю, сударыня, приходилось ли вам слышать когда-нибудь, как жалобно хнычет кукушка. Эти птицы мнят себя поэтами, а на деле попросту больные. Подчас, бывает, и споют нежную песенку, а чаще гундосят все одно и то же. Поют они вовсе не о той меланхолии, каковую чувствует всякий, кто мыслит глубоко, и не о той вселенской скорби, что порождена злой судьбиною, — нет, печаль в их песнях сама себе льстит и собственным плачем любуется, а плач-то лишь оттого, что нет никакой охоты повеселиться. Они метят на то, чтоб разжалобить нежные сердца, и считают себя самыми благородными во всем царстве пернатых. А что то и дело слезы льют, так это, по их мнению, говорит об их прёкраснодушии. До поры до времени их меланхолическим всхлипываниям сопутствовал успех… но теперь они в упадке, ибо всем уже ясно — в глубине души кукушки-плакалыцицы обыкновенные эгоистки. Остается у них еще немного верных поклонников, но чтобы они исправились, их сослали на окраину леса; при этом постановили нарочно для них учредить ежеквартальную премию за песню наименее слезоточивую и наименее себялюбивую. Так некоторых удалось наставить на путь истинный. Птичье собрание, сударыня, советует вам обратить внимание на остальных.
В последний день масленичного карнавала перед постом праздник повсюду, в лесах и полях. Все, вплоть до муравьишек, суетятся, хлопочут, и всяк, одевшись в живописные лохмотья, совершает тысячи безумств. Лишь кроты и совы и туг не отступают от своего дурного нрава. «Гу! гу! — ворчат они меж собою. — Да где это видано — напялить какие-то обноски и ходить как пугала огородные? Что за манеры?»
Когда вы пожалуете к нам, сударыня, объясните наконец этим мрачным личностям, что манер и достоинства больше в том, чтобы смеяться, нежели плакать, и что уныние насылает дьявол, зато веселье — дар Божий.
А что до нас, то мы смиренно умоляем вас соблаговолить стереть с лица земли все, что злобно брызжет слюной и пресмыкается, — земляных червяков, слизней и змей.
Подумайте о тех козявках, что запасают провизии намного больше, чем им необходимо, и, набив себе брюшко, произносят проповеди о пользе умеренной жизни перед изможденными простачками.
Не забудьте, сударыня, и о попрыгунчиках — шарпатанах всех мастей; а впрочем, для тех, кто выступает на ярмарке, можно сделать исключение.
Настоятельно просим вас не щадить ни орлов, ни ястребов, ни стервятников.
Да не будет милости вашей ни львам, хотя бы и ручным, ни гиене, что жрет падаль, ни куницам, ни лисам, ни пантере или шакалу и никому из этого хитрого семейства кошачьих. Но не трогайте верных собак, выносливых бычков, плодовитых пчел, гордых коней, хорошеньких пташек, что поют так сладко, соловушек, весельчаков зябликов и ранних жаворонков.
Да прольется благость ваша на все цветы, и даже камелии, тюльпаны и пионы.
А теперь, сударыня, надобно сказать вам без обиняков — снизойдите вы милостиво к тем загадочным существам, что зовутся женщинами и чей характер так и остался непонятым до сей поры, невзирая на их столь частые связи с мужчинами, которых, сдается мне, они превосходят. Вечно мы их гоняем в хвост и в гриву, вчера они у нас рабыни, а сегодня мы превозносим их, словно они богини. Вот и получается, что от богов в них гордыня, а скрытность от рабынь. Все мы им позволили, кроме одного — быть такими, какие они есть. Восхищаемся себялюбивыми, а страдают порядочные. Всех женщин наставляем блюсти целомудрие — а оказавшись с ними наедине, что ни день опровергаем свои же наставления. Как щедро мы осыпаем их противоречиями: точно с куклами играем с ними, требуя ангельской добродетели, считаем их большими детьми и при этом требуем великой мудрости; сами их соблазняем, и сами же презираем тех, кто падет.
Нам известно, что они, как и мы, скроены из крови и нервов; что для жизни им, как и нам, потребно пить и есть. Но ведь мы обстругали, обузили и разукрасили их так, что эти несчастные существа, сидя за столом в нашей мужицкой компании, едва осмеливаются дотрагиваться до яств кончиками губ.
Муж у нас имеет право убить неверную жену; однако чтобы обманутая супруга смогла пристрелить неверного мужа, такого закона нет. Любящая женщина кажется нам самым прекрасным существом из всего, что вышло из дланей Божьих: любовь, верность, самопожертвование, высокие порывы, сама беззаветная преданность во плоти, да просто ангел, сошедший на землю. И чем же мы чаще всего платим за такое счастие? Грубостью, подозрительностью и ревностью. Мы вырываем их из материнских объятий невинными, чтобы усовершенствоваться с ними в той грязной науке, каковой нас самих обучили публичные девки. Затем наша любовь угасает, и мы без угрызений совести швыряем их, оскверненных, в толпу, принося им тем самым несказанные горести. А потом, похлопывая друг друга по плечу, радостно называем себя сердцеедами.
Мы придумали для них долг, платоническую любовь и целомудрие; мы приказываем им не слушать голоса их природы, поскольку ведь это только нам позволено быть счастливыми и свободными.