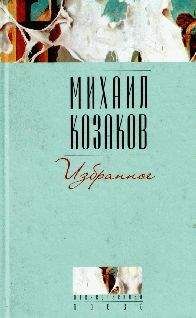И когда, уходя вновь на кухню, Елизавета Григорьевна забывает захватить с собой неловко заброшенную сюда пыльную калошу, — он встает с диванчика, поднимает ее с пола и сам относит в переднюю.
Или вот теперь: Елизавета Григорьевна пересыпает из кулька сахар; белые кристаллики песка с коротким шуршащим шумом падают на подставленную тарелку, мгновенно наполняют ее через край и сыплются дальше — на стол, на плетеное решетом сиденье стула и сквозь дырочки его — на пол.
— Ах, не рассчитала! — восклицает Елизавета Григорьевна и выбегает с тарелкой из комнаты, и рассыпанный на полу сахарный песок, как раздавливаемые насекомые, хрустит неприятно под ее башмаками.
«Фи, безобразие… неряха!» — раздуваются уже ноздри Ардальона Порфирьевича, и его маленький птичий нос нервно подергивается.
При каждом появлении жены Ардальон Порфирьевич теперь уже с нарочитой внимательностью следит за каждым ее жестом; и глаз и мысль ищут в них еще чего-нибудь нового, что могло бы дополнить сегодняшние наблюдения за Елизаветой Григорьевной.
И хочется еще и еще чего-нибудь угловатого, нескладного и неприятного в поступках, в движениях жены, вдруг ставшей далекой, даже враждебно-чужой, — и Адамейко чувствует уже, как упорная злоба вместе с кровью приливает к его мозгу.
А когда через минуту Елизавета Григорьевна возвращается в столовую со шваброй и аккуратно выметает пол, и попутно стирает пыль возле самых ног сидящего на диванчике Ардальона Порфирьевича, злоба эта не только не утихает, но неожиданно еще больше усиливается! «Эх, догадалась-таки, неряха!…» И неприятно, зачем «догадалась» уже Елизавета Григорьевна!
Но вот взгляд упал на загнувшийся подол ее юбки, — и Ардальон Порфирьевич с сухой иронической усмешкой вспоминает еще одно прегрешенье жены: как, раздеваясь перед сном, часто оставляет Елизавета Григорьевна на пыльном полу сброшенное с себя неопрятное платье, или в новой юбке может валяться на кровати, или находит — бывает — свою гребенку в хлебнице…
— Садись к столу! — входит с шипящими на сковороде и пускающими горячие масляные пузырьки котлетами Елизавета Григорьевна. — Мне ведь бежать скоро…
Ардальон Порфирьевич сбрасывает с колен рыжего кота и молчаливо присаживается к столу, а вгнездившаяся, не покидающая мысль, как упорная ткачиха, ткет: «Непростительно ей… За что прощать ей: хоть бы с душой человек был или красотой брала, а то мясо одно и галантереей торгует!…»
Красоты и впрямь у Елизаветы Григорьевны было мало. Если чем и вызывала к себе внимание супруга Адамейко, так это бедрами только. Они были непомерно крупных размеров, бочкообразные, тяжелые, и юбка лежала на них оттопыренно и вздуто, словно сшита была из нескладного брезента. Из-за бедер же этих юбка делалась короче, и из-под нее виднелись обутые в черные шелковистые чулки стройные, тонкие ноги, никак не соответствовавшие своему непомерно крупному верху: казалось, вот-вот они подогнутся и обломаются в коленях от напирающей на них тяжести. Впечатление это еще усугублялось тем, что роста Елизавета Григорьевна была низкого, как и муж, но плечи имела широкие и круглые.
Лицо же Елизаветы Григорьевны никакими достопримечательностями не обладало, если не считать вздернутого носа и выпуклых желтовато-коричневых глаз, смотревших всегда добро и чуть растерянно.
Нельзя сказать, что Адамейко не любил вовсе своей жены. Наоборот, часто он был очень ласков с ней и сам дорожил вниманием и лаской Елизаветы Григорьевны, которую, по существу, считал верной подругой своей жизни, а в некоторых житейских вопросах — и старшим товарищем своим. Сама Елизавета Григорьевна так и старалась поставить себя во взаимоотношениях с мужем: она была старше Ардальона Порфирьевича на четыре года и считала себя значительно опытней и практичней его. Адамейко к тому же находил ее еще и более спокойным человеком.
Он был рад этому спокойствию жены, верней — тем ограниченным требованиям к жизни, которые она, Елизавета Григорьевна, предъявляла вместе с тем и к нему самому: она умела быть довольной каждым прожитым своим днем, хлопотами и заботами в ларьке и по дому, маленьким развлечением, полученным в кино или — в очень редких случаях — в театре миниатюр на Невском, или солнечной погодой в воскресный день. В газете она читала только распоряжения местной власти о порядке торговли, о квартирной плате и иногда также доступно написанный отчет о каком-нибудь сенсационном уголовном деле.
Надо сказать кстати, что, когда, впоследствии судили уже и самого Ардальона Порфирьевича, и Елизавета Григорьевна, все время присутствовавшая в зале суда, была уже в курсе всех происшедших событий — вплоть до факта нападения в темном переулке на немого человека, — даже и тогда уже она искала точного объяснения всему не столько при помощи своих собственных умозаключений, сколько в бойком отчете газетного репортера, довольно верно схватывавшего некоторые черты характера ее мужа… Может быть, здесь наилучшим образом сказалась неразвитость ее ума, но все же совсем глупой назвать Елизавету Григорьевну нельзя было.
Но по временам вдруг именно такой и считал ее Ардальон Порфирьевич. Тогда уже то, что он привык называть спокойствием ее натуры, в его глазах получало неожиданно другой смысл, весьма обидный для Елизаветы Григорьевны.
Адамейко, привыкший, по складу своего ума, думать, обо всем очень пытливо и проникновенно и меньше всего проявлявший интерес к людям, ему близким и легко разгадываемым, иногда вдруг вспоминал о жене, как о человеке, — и тогда тихость и нетребовательность ее ума, принимавшего жизнь так же бездумно, не проверяя, как пациент — таблетки из аптеки, — вызывали у Ардальона Порфирьевича чувство скрытого презренья к жене и прилив острого озлобления человека, превосходство которого среди всех окружающих так явно, но для них незаметно или безразлично… А о превосходстве своем Ардальон Порфирьевич часто думал, и мысль об этом уже сделалась частью его характера.
И если сегодня эта же мысль пустила уже, как почка — ростки, и другие — о малой привлекательности и нескладности жестов и поступков неопрятной Елизаветы Григорьевны, то была уже и новая — вкрадчивая и по-своему волнующая.
Каждый раз, подняв голову от тарелки, Адамейко видел сбоку от себя румяное и лоснящееся от недавней кухонной возни хорошо знакомое лицо жены, и непонятно для самого себя Ардальон Порфирьевич чувствовал теперь, что видит он словно не целиком облик Елизаветы Григорьевны, а только каждую часть ее лица в отдельности…
Вот замасленные влажные губы — рот, обнажающий такие же жирные теперь передние зубы с застрявшими между ними кусочками картошки и мяса; вот, отдельно, безучастно ко всему приподнятый кверху кругленький нос; глаза, густые ресницы, не отпускающие застрявшего среди них одного свисающего с головы волоса; одной сплошной светло-русой бечевочкой протянутые брови, родимое пятнышко на щеке, кончик закрытого прической уха, — все это видел отдельно, все это, казалось, и существовало только порознь, а живого лица жены, самой Елизаветы Григорьевны, — как будто теперь уже и не
было…
Так вот — отдельно можно смотреть на брови; на родимое пятнышко, на жирный зуб, словно все это находилось порознь у нескольких людей.
«Фу, ты, черт, предметы разные в голову лезут!» — одну минуту подумал даже Ардальон Порфирьевич.
Но в то же время новая, вкрадчивая и волнующая, мысль вставляла живо и отчетливо видеть уже то, что реально сейчас перед глазами не существовало: глаза видели все время образ встретившейся сегодня Ольги Самсоновны.
И если весь этот час Ардальон Порфирьевич был особенно придирчив в наблюдениях над Елизаветой Григорьевной, то, как понятно будет читателю впоследствии, этому немало способствовала упорная мысль о встрече с женой Сухова.
О том, какое впечатление произвела на него эта встреча, Ардальон Адамейко расскажет в свое время лично, — мы же вернемся к описанию того, как провел он остаток дня 28 августа; но, до этого, сообщим теперь же, в следующей главе, о некотором факте, имевшем место ровно через 12 дней, то есть 9 сентября.
Девятого сентября после обеда, уходя на Клинский, Елизавета Григорьевна поручила Ардальону Порфирьевичу зайти через час к вдове Пострунковой — отдать взятые взаймы деньги, о чем еще дня два тому назад условлено было с Варварой Семеновной. И, когда после ухода жены пришел обусловленный час, в течение которого, как знала Елизавета Григорьевна, вдова еще должна была отдыхать, — Ардальон Порфирьевич, закрыв квартиру на французский замок, направился через площадку к дверям соседки.
Звонка в квартире Пострунковой не было, — и он кулаком постучал в дверь. Слышно было, как в глубине квартиры залаяла тотчас же собака Варвары Семеновны, — потом в одну секунду, скачками, лай этот уж пронесся по всей квартире — и громко уже раздался рядом с Ардальоном Порфирьевичем: теперь его отделяла от собаки только дверь.