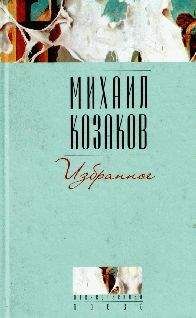Он обнял жену и прижал к своему плечу, заглядывая пристально и осторожно в ее настежь открытые большие глаза.
— О тебе. Об одной теперь — вот что, Ольга! Я ведь не говорю, но я все знаю… вижу все, чувство мне мое говорит, понимаешь!… Бывает так, слежу за тобой… Жду каждый день теперь, думаю: «Переступит она или не переступит?» Нот по одному, так сказать, предмету… живому предмету, Ольги, и проверяю каждый раз… Я ведь собаку твою, Милку твою любимую, не отдам, — понимаешь, не отдам ведь! — испытующе посмотрел он на жену. — Прошлый год, как купила себе, — прихотью считал, бабьим капризом. Подражать, подумал, барынькам новым жена моя захотела: жена у меня не как у каждого рабочего человека… Ну, пускай! А теперь и сам не уступлю, никому, понимаешь? Вот по ней, по собаке-то, и проверяю, слежу… Думаю: собаку согласится продать, — значит, рвать все будет, бросать все будет, — и чтоб ничего не напоминало! Так? Иначе и быть не могло… Красивая ты, кожа у тебя не рабочая… молодая…
Темные ресницы, опущенные вниз, скрыли от Сухова голубые, устремленные на него с тревогой глаза.
— Не мучай, Федор, нельзя так… Я ведь за тебя теперь боюсь, а ты вот о чем!…
— Я не мучаю, Ольга…
— Мама!… — застонал вдруг в соседней комнате ребенок. — Ма-ама!…
— Проснулся! Иду, иду, Павлик!… Пусти…
Ольга Самсоновна вскочила с сундучка и быстро вышла из комнаты. Встал и Сухов.
В квартиру позвонили. Сухов пошел открывать. На пороге стоял Адамейко, а сзади него Галочка и ласково повизгивавший пушистый шпиц…
— Можно? — спросил Ардальон Порфирьевич, протягивая руку.
Домой Ардальон Порфирьевич возвратился почти тогда же, когда и жена, Елизавета Григорьевна.
Днем, когда торговля в ларьке значительно уменьшалась, Елизавета Григорьевна оставляла его на два часа под присмотр своей компаньонки и приходила домой, чтоб наспех состряпать на примусе обед себе и мужу.
Шипел неподалеку, на кухне, примус; слышно было, как брюзжит на огне, рассыпая брызги масла, наполненная котлетами сковорода; несколько раз — торопливо, наталкиваясь плечом на дверь или спотыкаясь о какой-нибудь предмет в передней, поправляя на ходу упавшие на лицо волосы, — вбегала в комнату, к столу или буфету, Елизавета Григорьевна, — и тогда от рук ее шел теплый густой запах кухонной посуды и жареного мяса, которое вот, с нескрываемым удовольствием, через каких-нибудь четверть часа Ардальон Порфирьевич, смазав горчицей или помочив в салате, медленно и по привычке хорошо пережевывая, съест, прочитывая одновременно «вечерку», которую имел обыкновение просматривать всегда во время обеда.
Пока жена возилась со стряпней, Ардальон Порфирьевич, полулежа на диванчике, играл с рыжим молодым котом, которого взяли к себе супруги Адамейко в предохранение квартиры от мышей, переселившихся сюда, по словам Елизаветы Григорьевны, от соседки по площадке — Варвары Семеновны Пострунковой, вдовы бывшего подпольного адвоката Николая Матвеевича.
Чудаковатый и странный был человек — этот Николай Матвеевич! И последнюю странность, последнее свое чудачество выказал он перед самой смертью, случившейся всего лишь полтора года тому назад.
В свое время Ардальон Порфирьевич подробно рассказал нею эту историю Сухову, и мы бы не приводили ее, если бы продолжение ее, уже после смерти подпольного адвоката, не имело некоторого значения для уяснения душевного состояния самого Адамейко, обрисовать которого мы обязались возможно полней и подробней.
Последнее чудачество покойного Николая Матвеевича, — его предсмертное завещание, — поразило тогда многих его знакомых, не сумевших скрыть в этот печальный час своей улыбки, а некоторые, — как, например, и сам Адамейко, -неуместно выпрыгнувшего наружу смешка…
Николай Матвеевич человек был физически еще крепкий для своих пятидесяти пяти лет, веселый, слыл среди друзей неисправимым эпикурейцем, и астма, так неожиданно задушившая его, увела в могилу человека, меньше всего страшившегося холодной пустоты смерти.
Поэтому, может быть, в то время, когда перепуганная, растерявшаяся Варвара Семеновна, стоя у его изголовья, сиротливо и уныло завывала, выпрашивая мужнее разрешение пригласить для напутствия знакомого священника, — может быть, для того именно, чтоб прервать на минуту нудный и тоскливый плач жены, более неприятный ему, чем сама смерть, Николай Матвеевич, отдышавшись чуть от последнего приступа удушья, поглядел на всех присутствующих и, чуть иронически улыбаясь, сказал вдруг:
— Попика Александра звать не надо. Посудите сами, вы, остающиеся жить, так сказать… Какое ж может он мне напутствие учинить, когда и посейчас, не без некоторого процента вероятности, подозревает меня, раба грешного, в вольном прегрешении с попадьей-матушкой, Анной Ивановной?! И не где-нибудь, а в светелке их супружеской… А ты, Варвара, не горюй. Через день меня хоронить будешь, но знай… Весь я не умру, а превращусь на время твоей жизни в… мышку! И будет га мышка всюду тут бегать, и береги ее от котов, потому что это я буду! Это тебе мое завещание, а? Гляди веселей, кум Елисей! Ах, черт!… — сказал уже чуть слышно Николай Матвеевич, сильно закашлявшись.
В тот же день он умер.
И в то, что говорил он перед смертью в шутку, уверовала по-настоящему, как увидели потом все, вдова Варвара Семеновна. Первой об этом рассказала молочница в беседе с Елизаветой Григорьевной.
Наливая на кухне молоко в кувшинчики Варвары Семеновны, молочница заметила вдруг на полу, подле шкафика, возившегося юркого мышонка.
— И кошка у вас есть, а мыши бегают, — спокойно сказала она и, схватив с плиты полено, бросила его вдруг в мышонка, но промахнулась.
— Мышонок? — вскрикнула радостно вдова. — Да как ты смеешь!… Не трогай, поганка, не трогай, я тебе говорю: это ведь Николай Матвеевич!…
Кошку в тот же день Варвара Семеновна кому-то отдала, а через некоторое время мышонок не только не боялся показываться у шкафчика, но свободно разгуливал по кухне, а потом и по всей квартире. Он подолгу возился на одном каком-нибудь месте, куда заботливые теперь руки Варвары Семеновны клали сахар, коржики, слоеный пирожочек, а сама она тихо, не шелохнувшись, сидела в сторонке и следила за маленьким прожорливым животным, которого кормила всем тем, что любил раньше покойный Николай Матвеевич.
Горе постигло Варвару Семеновну, когда однажды увидела вдруг у оставленного на полу кусочка сахара… одновременно двух мышей, совершенно одинаковых, неразличимых!…
Ох, всячески старалась бедная вдова объяснить сама себе это неожиданное появление второго мышонка, всячески старалась успокоить себя различными соображениями о странных возможностях, таящихся в загробной жизни… Но спустя короткое время, когда мыши уже одновременно скребли и бегали во всех комнатах, — Варвара Семеновна перестала уже искать тому объяснений, но кошки все же в дом не взяла, так как боялась, что глупое животное сможет случайно умертвить именно «Николая Матвеевича»…
Странность эту Варвары Семеновны знали уже все в доме, но лучше всех — супруги Адамейко, ближайшие соседи, иногда заходившие к ней по разным делам.
Между вдовой и Елизаветой Григорьевной вскоре установились чисто деловые отношения, так как часто Варвара Семеновна ссужала деньгами под некоторый небольшой процент маленькое торговое предприятие Елизаветы Григорьевны на Клинском рынке: после покойного Николая Матвеевича осталось сотни две червонцев, кстати сказать, выигранных им незадолго до смерти в известном всей столице Владимирском клубе.
Сделав это незначительное отступление, дающее хотя бы некоторое представление читателю о ближайшей соседке супругов Адамейко, — станем продолжать теперь наше повествование, прерванное мыслью о причинах, повлекших появление в квартире Елизаветы Григорьевны молодого рыжего кота.
Кот этот игриво и стремительно каждый раз вскакивал то па колени к человеку — и в том и в другом случае стараясь мягко, не царапая, задеть его крупное, торчащее ухо или юлящий перед глазами палец хозяина, но сегодня Ардальон Порфирьевич вяло и неохотно отвечал на забавы шаловливого кота, привыкшего к более внимательному к себе отношению.
Внимание же и мысли Ардальона Порфирьевича были заняты теперь другим. Он сам ловил себя теперь на этих мыслях, подбирал и складывал их в своем мозгу одну подле другой, как коллекционер — собранные им предметы.
И несколько раз забегавшая в комнату Елизавета Григорьевна никак не могла предполагать, что собирал эти мысли теперь Ардальон Порфирьевич о ней именно.
Вот, сию минуту, забежав за сахаром, она неловко шагнула в передней, зацепила ногой стоявшие под столиком калоши, — и одна из них, неприятно шаркая по полу, влетела вдруг в комнату, шлепнувшись — перевернутая — о косяк буфета.
«Эх, косолапая какая!…» — морщится про себя Ардальон Порфирьевич, провожая взглядом торопливую жену.