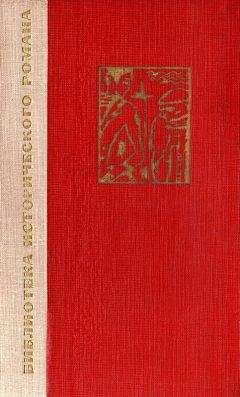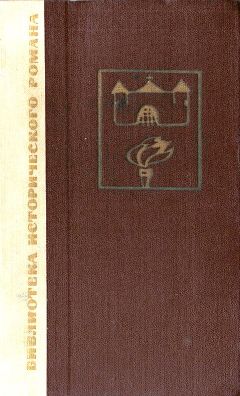Старик остановился, чтобы перевести дыхание, и, не дождавшись ответа от своего спутника, который слушал его, глядя куда-то в сторону, продолжал:
— По поручению отца вашего я принялся искать защитника. Вначале обратился к известному филиппинскому адвокату, молодому А., но он отказался вести дело. «Я его проиграю, — сказал он мне. — Моя защита может стать поводом для нового обвинения, которое выдвинут против него и, возможно, против меня самого. Обратитесь к сеньору М. Он — оратор страстный, красноречивый, к тому же испанец и пользуется большим авторитетом». Я так и поступил; знаменитый адвокат взял на себя защиту, которую провел блестяще. Но врагов было много, и среди них немало тайных. Лжесвидетели шли толпами, и их клеветнические заявления, которые в любой другой стране рассеялись бы как дым от одного иронического или язвительного замечания защитника, здесь обретали вес и значение. Если адвокату удавалось отвести некоторые обвинения, доказав их противоречивость и несостоятельность, то тотчас же всплывали новые. Отца вашего обвиняли в незаконном присвоении многих земель, у него требовали возмещения убытков; утверждали, что он поддерживает связь с тулисанами[39] для того, чтобы те не трогали его посевы и стада. Дело наконец так осложнилось и запуталось, что через год никто уже не мог в нем разобраться. В это время алькальд был смещен; пришел другой, который имел репутацию человека справедливого, но, к несчастью, он продержался всего лишь несколько месяцев, а его преемник слишком увлекался чистокровными лошадьми.
Страдания, тревоги, ужасные условия тюремной жизни, а может быть, и душевная боль, испытанная им при виде человеческой неблагодарности, подорвали железное здоровье вашего отца и наградили его недугом, который исцеляется только могилой. И когда все уже должно было завершиться, когда с него должны были снять обвинения в измене родине и убийстве сборщика, он умер в тюрьме в полном одиночестве. Я застал его уже на смертном одре.
Старик умолк. Ибарра не вымолвил ни слова. Меж тем они подошли к воротам казармы. Офицер остановился и, протягивая юноше руку, сказал:
— Подробности, молодой человек, узнаете у капитана Тьяго. А сейчас — спокойной ночи! Мне надо посмотреть — не случилось ли тут чего.
Ибарра с чувством пожал костлявую руку лейтенанта и молча проводил его глазами до дверей. Затем медленно обернулся и, увидев пустую пролетку, махнул кучеру рукой.
— Гостиница «Лала»! — проговорил он едва слышно.
«Наверно, только что из тюрьмы», — подумал про себя кучер, хлестнув лошадей.
Ибарра поднялся в свою комнату, выходившую окнами на реку, упал в кресло и устремил взор на просторы, которые открывались перед ним.
Дом напротив, на том берегу реки, был ярко освещен, и до слуха юноши долетали веселые звуки музыкальных инструментов, главным образом струнных. Будь он менее занят своими мыслями и более любопытен, он, возможно, захотел бы посмотреть в бинокль на то, что происходило в залитом светом доме. И тогда он замер бы от восхищения перед одним из тех фантастических видений, тех волшебных зрелищ, которыми порой можно любоваться в больших театрах Европы. Под звуки тихой музыки в зареве света, в каскаде брильянтов и золота, на фоне восточных декораций, в облаке тончайшего газа появляется божество, сильфида, которая движется, почти не касаясь пола, окруженная лучезарным нимбом. В ее присутствии распускаются цветы, танцы пронизываются огнем, громче звучит музыка, а нимфы, черти, сатиры, духи, пастушки кружатся в хороводах, бьют в бубен, извиваются, пляшут, и каждый кладет к ногам богини свое подношение. Ибарра мог бы увидеть прекраснейшую девушку, стройную, одетую в живописный наряд дочери Филиппин, стоявшую в центре полукруга, образованного разными людьми, которые толпились и оживленно жестикулировали подле нее; среди них были китайцы, испанцы, филиппинцы, военные, служители церкви, старухи, молодые и т. д. Отец Дамасо не отходил ни на шаг от красавицы, отец Дамасо улыбался, как блаженный; отец Сибила, сам отец Сибила обращал к ней свое слово, а донья Викторина поправляла на роскошных волосах девушки диадему из жемчугов и брильянтов, которые сверкали всеми цветами радуги. Кожа у красавицы была светлая, может быть, даже слишком светлая; в глазах, почти всегда потупленных, светилась, когда она их поднимала, чистейшая душа; а когда она улыбалась, обнажая свои белые маленькие зубы, вы понимали, что роза — всего лишь скромный цветок, а слоновая кость — только клык животного. Вокруг ее белой лебединой шеи, ниспадая на легкую одежду из пиньи, «подмаргивало», как говорят тагалы, своими веселыми брильянтовыми глазками ожерелье. Только один человек, казалось, не поддавался ее светлому обаянию, если можно так выразиться: это был молодой худощавый человек с осунувшимся бледным лицом в рясе францисканца; он издали созерцал девушку, застыв на месте словно статуя, почти не дыша.
Но Ибарра ничего этого не замечал: его глаза видели другое.
Четыре голых и грязных стены ограждают маленькую каморку; на одной стене, вверху — решетка; на омерзительно грязном полу — рогожа, а на рогоже — умирающий старик, который дышит с трудом, переводя взор с одной стены на другую и повторяя в слезах одно и то же имя. Старик совсем один. Порой доносится лишь звон цепей да чье-то рыдание из-за стены… а где-то за тридевять земель отсюда в это время в разгаре веселая пирушка; какой-то юноша хохочет, кричит, под аплодисменты и пьяный смех остальных поливает вином цветы. А у старика — лицо его, Ибарры, отца, юноша же похож на самого Ибарру, и имя, произносимое умирающим сквозь слезы, — его, Ибарры, имя!
Такая картина была сейчас перед глазами несчастного Ибарры.
Погасли огни в доме напротив, смолкли музыка и шум, но в ушах Ибарры все еще звучали стоны отца, призывавшего сына в свой последний час.
Тишина уже овеяла своим беззвучным дыханием Манилу, и все, казалось, уснуло в объятиях небытия; слышалось только пенье петухов вперемежку с боем часов на башнях и протяжными окриками скучающих стражников; выглянул осколок луны; все, казалось, предалось отдыху, — даже сам Ибарра уснул, утомленный, наверное, своими печальными думами или путешествием.
Но молодой францисканец, которого мы недавно видели в зале молчаливым и неподвижным среди всеобщего веселья, не спал; он бодрствовал. В своей келье, облокотившись на подоконник и подперев ладонью бледное изможденное лицо, он в молчанье глядел на далекую звезду, блиставшую на темном небе. Вот звезда побледнела и исчезла, погас слабый свет месяца на ущербе, однако монах не двинулся с места: он устремил теперь взгляд к далекому горизонту, терявшемуся в утреннем тумане, к полям Багумбаяна[40], к морю, которое еще спало.
Да будет воля твоя яко на небеса и на земли!
Пока наши герои спят или завтракают, обратимся к капитану Тьяго. Мы никогда не были в числе его гостей, и потому у нас нет ни права, ни обязанности презирать или обходить его, повествуя даже о незначительных событиях.
Невысокого роста, светлокожий, с округлым лицом и брюшком, появившимся благодаря избытку жира, — который, по словам его почитателей, дарован ему небом, а по словам врагов, образовался из пота и крови бедняков, — капитан Тьяго выглядел моложе своих лет; ему можно было дать лет тридцать — тридцать пять. В ту пору, к какой относится наш рассказ, лицо его неизменно сияло радостью и довольством. Его круглый, маленький череп, поросший черными как смоль волосами, длинными спереди и очень короткими сзади, вмещал, как говорили, много всякой всячины. Небольшие, но не раскосые глазки никогда не меняли выражения; нос был тонким и не приплюснутым, и если бы рот не кривился от постоянного употребления буйо, комья которого, скапливаясь за щекой, нарушали симметрию лица, то мы сказали бы, что он ничуть не ошибается, веря в свою мужскую привлекательность и открыто ею похваляясь. Несмотря на страсть к табаку, он сохранил белизну зубов, — и собственных и тех двух, которыми его наделил дантист по двенадцати дуро за штуку.
Его считали одним из самых видных людей в Бинондо и одним из самых богатых землевладельцев — он имел земли и в Пампанге и в Лагуне-де-Бай[41], но больше всего — в городке Сан-Диего, где арендная плата за землю с каждым годом росла. Сан-Диего был его излюбленным городом из-за удобных купален, знаменитых петушиных боев и дорогих его сердцу воспоминаний; он проводил там по меньшей мере два месяца в году.
Капитан Тьяго владел многими земельными участками в Санто-Кристо, на улице Анлоаге и на улице Росарио. Контракт на поставку опиума он заключил вместе с одним китайцем, — нечего и говорить, что компаньоны получали огромные доходы. Он поставлял провиант узникам Билибида и зелень многим лучшим домам Манилы, — по договору, разумеется. Отлично ладя со всеми властями, расторопный, ловкий и даже смелый там, где речь шла о возможности нажиться на чьих-либо нуждах, он был единственным и самым опасным соперником некоего Переса при получении подрядов и разных постов и должностей, которые правители Филиппин всегда раздают частным лицам. Таким образом, в ту пору, о которой идет речь, капитан Тьяго был счастливым человеком, насколько может быть счастлив в тех краях человек с маленьким черепом: он был богат, жил в мире с богом, с правительством и с людьми.