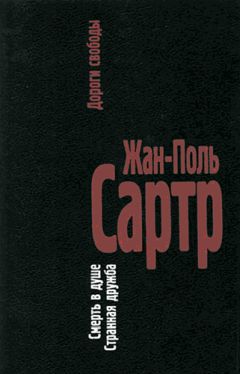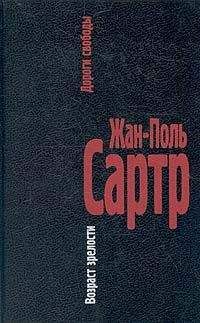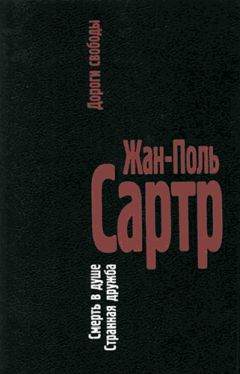— Послушайте! — сказал Люберон.
— Что это?
Вокруг них было что-то вроде пустоты, странное спокойствие. Птицы пели, на заднем дворе кричал петух; вдалеке кто-то равномерно бил по куску железа; однако это была тишина: канонада прекратилась.
— Э! — удивленно протянул Шарло. — Э! Скажи-ка!
— Ага.
Они прислушались, не переставая смотреть друг на друга.
— Так все и начинается, — равнодушным тоном проговорил Пьерне. — В определенный момент по всему фронту наступает тишина.
— По какому фронту? Фронта нет.
— Ну, повсюду.
Шварц робко шагнул к ним.
— Знаете, — сказал он, — я думаю, сначала должен быть сигнал горна.
— Придумал! — возразил Ниппер. — Связи больше нет; даже если бы они заключили мир сутки тому назад, мы бы его все еще ждали.
— Может быть, война кончилась уже с полуночи, — сказал Шарло, смеясь от надежды. — Прекращение огня всегда происходит в полночь.
— Пли в полдень.
— Да нет же, глупый, в ноль часов, понимаешь?
— Да замолчите же! — прикрикнул Пьерне.
Они замолчали. Пьерне прислушивался с нервным тиком на лице; у Шарло был полуоткрыт рот; сквозь оглушающую тишину они вслушивались в Мир. Мир без славы и без колокольного звона, без барабанов и труб, Мир, похожий на смерть.
— Мать твою! — выругался Люберон.
Гул возобновился, он казался менее глухим, более близким и угрожающим. Лонжен скрестил длинные руки и хрустнул пальцами. Он с досадой сказал:
— Черт побери, чего они ждут? Они думают, что мы еще недостаточно разгромлены? Что мы потеряли недостаточно людей? Неужели нужно, чтобы Франция полностью пропала, а иначе они не остановят бойню?
Все были вялы, издерганы, уязвлены, с землистыми лицами людей, страдающих несварением. Достаточно было удара барабана на горизонте — и большая волна войны снова обрушилась на них. Пинетт резко повернулся к Лонжену. Его глаза смотрели остервенело, пальцы стиснули край желоба.
— Какая бойня? А? Какая бойня? Где они, убитые и раненые? Если ты их видел, значит, тебе повезло. Я же видел только трусов вроде тебя, которые бегали по дорогам с дрейфометром на шее.
— Что с тобой, дурачок? — с ядовитым участием спросил Лонжен. — Ты себя плохо чувствуешь?
Он бросил на остальных многозначительный взгляд:
— Он был хороший паренек, наш Пинетт, его очень любили, потому что он сачковал, как и мы, уж он не вышел бы вперед, если бы потребовался доброволец. Жалко, что он хочет повоевать теперь, когда война уже закончена. Глаза Пинетта сверкнули:
— Ничего я не хочу, мудило!
— Хочешь! Ты хочешь в солдатики поиграть.
— И то лучше, чем обделываться, как ты.
— Слыхали: я обделываюсь, потому что сказал, что французская армия получила взбучку.
— А ты уверен, что французская армия получила взбучку? — заикаясь от гнева, спросил Пинетт. — Ты что, посвящен в тайны главнокомандующего, генерала Вейгана?
Лонжен заносчиво и устало улыбнулся:
— Кому нужны тайны главнокомандующего: половина войск беспорядочно отступает, а другая окружена; тебе этого мало?
Пинетт рубанул воздух рукой:
— Мы перегруппируемся на Луаре, а в Сомюре соединимся с Северной армией.
— Ты в это веришь, умник?
— Так мне сказал капитан. Спроси у Фонтена.
— Северной армии придется повертеться, потому что у них на хвосте боши. А что до нас, то мы вряд ли с ними встретимся.
Пинетт исподлобья посмотрел на Лонжена, тяжело дыша и топая ногой. Он сердито тряхнул плечами, как бы намереваясь сбросить ношу. Наконец он зло и затравленно проговорил:
— Даже если мы отступим до Марселя, даже если пересечем всю Францию, останется Северная Африка.
Лонжен скрестил руки и презрительно улыбнулся:
— А почему не Сен-Пьер и Микелон[8], болван?
— Ты себя считаешь умником? Скажи, ты себя считаешь умником? — спросил Пинетт, наступая на него.
Шарло бросился между ними.
— Ну! Ну! — сказал он. — Вы что, собираетесь ссориться? Все согласны, что война ничего не решает и что вообще больше не нужно воевать. Бог нам в помощь! — воскликнул он пылко. — Вообще никогда!
Он напряженно смотрел на всех, он дрожал от страсти. Страсти всех примирить: Пинетта и Лонжена, немцев и французов.
— Наконец, — почти умоляющим голосом сказал он, — нужно суметь с ними поладить, они ведь не собираются всех нас уничтожить.
Пинетт обратил свое бешенство на него:
— Если война проиграна, то лишь из-за таких, как ты. Лонжен ухмылялся:
— Еще один никак не поймет.
Наступило молчание; потом все медленно повернулись к Матье. Он этого ждал: в конце каждого спора его делали арбитром, так как он был самый образованный.
— Что ты об этом думаешь? — спросил Пинетт. Матье опустил голову и не ответил.
— Ты что, глухой? Тебя спрашивают, что бы об этом думаешь?
— Ничего, — ответил Матье.
Лонжен пересек тропинку и стал перед ним:
— Как — ничего? Преподаватель все время думает.
— Что ж, как видишь, не все время.
— Ты все-таки не дурак: ты хорошо знаешь, что сопротивление невозможно.
— Откуда мне это знать?
В свою очередь, подошел и Пинетт. Они стояли по обе стороны Матье, словно его добрый и злой ангелы.
— Ведь ты не пал духом, — сказал Пинетт. — Неужто ты считаешь, что французы не должны сражаться до конца?
Матье пожал плечами:
— Если бы сражался я, я мог бы иметь свое мнение. Но погибают другие, сражаться будут на Луаре, и я не могу решать за них.
— Вот видишь, — сказал Лонжен, насмешливо глядя на Пинетта, — бойню за других не решают.
Матье встревоженно посмотрел на него:
— Я этого не сказал.
— Как не сказал? Ты только что это сказал.
— Если бы оставался шанс, — промолвил Матье, — совсем крохотный шанс…
— И что?
Матье покачал головой:
— Как знать?..
— И что же это означает? — спросил Пинетт.
— Это означает, — объяснил Шарло, — что осталось только ждать, стараясь при этом не портить себе кровь.
— Нет! — крикнул Матье. — Нет! Он резко встал, сжимая кулаки.
— Я жду с самого детства!
Они недоуменно смотрели на него, он понемногу успокоился.
— Что означает наше решение? — сказал он. — Кто спрашивает наше мнение? Вы отдаете себе отчет в нашем положении?
Они испуганно попятились.
— Ладно, — сказал Пинетт, — ладно, мы его знаем.
— Ты прав, — сказал Лонжен, — солдат не имеет права на собственное мнение.
Его холодная и слюнявая улыбка ужаснула Матье.
— Пленный еще меньше, — сухо ответил он.
Всё спрашивает у нас нашего мнения. Всё. Большой вопрос окружает нас: это фарс. Нам задают вопрос, как людям; нас хотят заставить думать, что мы еще люди. Но нет. Нет. Нет. Какой фарс — эта тень вопроса, который задают одни тени войны другим.
— А что за польза иметь собственное мнение? Решать-то не тебе.
Матье замолчал. Он вдруг подумал: «Нужно будет жить». Жить, срывать день за днем заплесневелые плоды поражения, платить за этот тотальный выбор, от которого он сегодня отказывался. «Но, Боже мой! Я не хотел ни этой войны, ни этого поражения: что за фокус — обязывать меня нести за них ответственность?» Он почувствовал, как в нем поднимается гнев — ярость попавшего в ловушку зверя, и, подняв голову, он увидел, как такой же гнев блестит в глазах его товарищей. Крикнуть в небо всем вместе: «Мы не имеем ничего общего с этой бойней! Мы не имеем ничего общего с этой бойней! Мы невиновны!» Его порыв угас: безусловная невиновность сияла в утреннем солнце, ее можно было ощутить на листьях травы. Но она так мала: истиной была эта неуловимая общая вина, наша вина. Призрак войны, призрак поражения, призрачная виновность. Он по очереди посмотрел на Пинетта и Лонжена и развел руками: он не знал, хотел ли он им помочь или попросить у них помощи. Они тоже посмотрели на него, потом отвернулись и удалились. Пинетт смотрел себе под ноги. Лонжен улыбался самому себе напряженной и смущенной улыбкой; Шварц стоял в стороне с Ниппером, они говорили друг с другом по-эльзасски, они уже были похожи на двух сообщников; Пьерне судорожно сжимал и разжимал правый кулак. Матье подумал: «Вот чем мы стали».
Разумеется, он сурово осуждал грусть, но когда в нее впадаешь, чертовски трудно от нее избавиться. «Должно быть, у меня несчастный характер», — подумал он. У него было много поводов радоваться, в частности, он мог бы себя поздравить с тем, что избежал перитонита, выздоровел. Но вместо этого он думал: «Я пережил самого себя» и сокрушался. В грусти именно причины радоваться становятся грустными, и радуешься грустно. «Однако, — подумал он, — я умер». Насколько это зависело от него, он умер в Седане в мае сорокового года: скукой были все те годы, которые ему оставалось жить. Он снова вздохнул, проследил взглядом за большой зеленой мухой, ползающей по потолку, и решил: «Я — посредственность». Эта мысль была ему глубоко неприятна. До сих пор Борис выдерживал правило никогда не задумываться о себе и чувствовал себя превосходно; с другой стороны, пока речь шла только о том, чтобы погибнуть, его посредственность не имела такого уж значения: наоборот, меньше оснований для сожалений. Но теперь все изменилось: ему выпала участь жить, и он вынужден был признать, что не имел для этого ни призвания, ни таланта, ни денег. Короче, ни одного потребного качества, кроме здоровья. «Как я буду скучать!» — подумал он. И почувствовал себя обманутым. Муха, жужжа, улетела. Борис провел рукой под рубашкой и погладил шрам, который прочертил его живот на уровне паха; он любил трогать этот маленький рубец плоти. Он смотрел на потолок, он гладил шрам, и на сердце у него было тяжело. В палату вошел Франсийон, направился к Борису, неторопливо шагая между пустыми койками, и вдруг остановился, разыгрывая удивление.