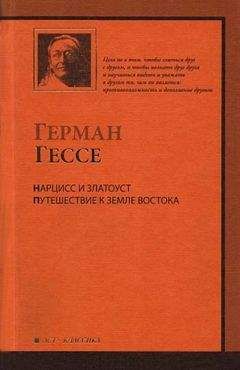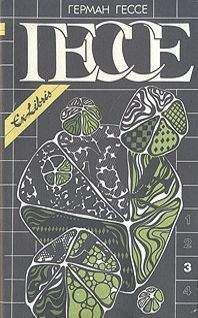Когда долгое время спустя дверь отворилась и вошел настоятель, патер все еще сидел, пристально смотря на лицо лежащего без сознания. Что за милое, юное, беззлобное лицо, и вот сидишь возле, хочешь помочь и не можешь.
Конечно, причиной могли быть колики, он бы распорядился дать глинтвейну, может быть, ревеню. Но чем дольше он смотрел на бледное до зелени, искаженное лицо, тем более склонялся к другому подозрению, внушающему большие опасения. У патера Ансельма был опыт. Не раз за свою долгую жизнь он видал одержимых. Он медлил высказать свое глубокое подозрение даже самому себе. Лучше подождать и понаблюдать. Но, думал он мрачно, если бедный мальчик действительно одержим, то виновника не придется далеко искать, и ему не поздоровится.
Настоятель подошел ближе, посмотрел на больного, приподнял ему осторожно веко.
– Можно его разбудить? – спросил он.
– И хотел бы еще подождать. Сердце здорово. К нему нельзя никого пускать.
– Есть опасность?
– Думаю, что нет. Никаких повреждений, никаких следов удара или падения. Он без сознания, может быть, это колики. При очень сильной боли теряют сознание. Если бы было отравление, был бы жар. Нет, он придет в себя и будет жить.
– А не может ли это быть из-за душевного состояния?
– Не стану отрицать. Но ведь ничего не известно? Может быть, он сильно испугался? Известие о смерти? Серьезный спор, оскорбление? Тогда все было бы ясно.
– Мы этого не знаем. Позаботьтесь, чтобы к нему никого не пускали. Вас я прошу побыть с ним, пока он не придет в себя. Если ему станет хуже, позовите меня, даже среди ночи.
Перед уходом старик еще раз наклонился над больным; он вспомнил о его отце и том дне, когда этот красивый милый белокурый мальчик прибыл к нему, и как все сразу полюбили его. И он с удовольствием смотрел на него. Но в одном Нарцисс был действительно прав: ни в чем этот мальчик не был похож на своего отца! Ах, сколько повсюду забот, как несовершенны все наши дела! Уж не упустил он чего в этом бедном мальчике? Разве это дело, что никто в монастыре не знал об этом ученике больше, чем Нарцисс? Мог ли тот ему помогать, когда сам еще был послушником, не был ни братом, ни рукоположенным, да и все мысли и взгляды его так непривычно высокомерны, даже почти враждебны? Бог знает, может быть, и с Нарциссом он давно ведет себя неправильно? Бог знает, не скрывает ли он за маской послушания дурное, может, он язычник? И за все. что когда-нибудь выйдет из этих молодых людей, за все он в ответе.
Когда Гольдмунд пришел в себя, было темно. Голова казалась пустой и кружилась. Он понял, что лежит в постели, но не знал где, он и не думал об этом, ему было все равно. Но где он побывал? Откуда вернулся, из какой чужбины переживаний? Он был где-то, очень далеко отсюда, он что-то видел, что-то необычайное, что-то чудесное, и страшное, и незабываемое – и все-таки он его забыл. Где же это было? Что это там всплыло перед ним. такое большое, такое скорбное, такое блаженное,и опять исчезло?
Он вслушивался в глубину себя, в то, где сегодня что-то прорвалось и что-то произошло – что же это было? Беспорядочный рой образов навалился на него, он видел собачьи головы, три собачьих головы и вдыхал аромат роз. О как ему было тяжело! Он закрыл глаза. О как ужасно тяжело ему было! Он заснул опять. Снова проснулся и как раз в тот момент, когда мир сновидений ускользал от него, он увидел этот образ, он обрел его и вздрогнул как бы в мучительном наслаждении. Он увидел, он прозрел. Он видел Ее. Он видел Великую, Сияющую, с ярким цветущим ртом, блестящими волосами. Он видел свою мать. Одновременно ему послышался голос: «Ты забыл свое детство» Чей же это голос? Он прислушался, подумал и вспомнил. Это был Нарцисс. Нарцисс? И в один момент, внезапным толчком все сно ва вернулось: он вспомнил, он знал. О мать, мать! Горы ненужного, моря забвения были устранены, исчезли, огромными светло-голубыми глазами утраченная снова смотрела на него, несказанно любимая. Патер Ансельм, задремавший в кресле рядом с кроватью, проснулся. Он услышал, что больной зашевелился, услышал его дыхание. Он осторожно поднялся.
– Есть здесь кто-нибудь? – спросил Гольдмунд. – Это я, не беспокойся. Я зажгу свет. Он зажег лампу, свет упал на его морщинистое, доброжелательное лицо.
– Разве я болен? – спросил юноша.
– Ты был без сознания, сынок. Дай-ка руку, послушаем-ка пульс. Как ты себя чувствуешь?
– Хорошо. Спасибо Вам, патер Ансельм, Вы очень добры. Я совершенно здоров, только устал.
– Конечно, устал. Скоро опять уснешь. Выпей сначала глоток горячего вина, оно уже готово! Давай осушим с тобой по бокалу, мой мальчик, за добрую дружбу.
Он уже заботливо приготовил кувшинчик глинтвейна и поставил в сосуд с горячей водой.
– Вот мы оба и поспали немного, – засмеялся врач. – Хорош санитар, скажешь ты, не мог пободрствовать. Ну что ж, ведь и мы люди. Сейчас выпьем с тобой немного этого волшебного напитка, малыш, нет ничего приятнее такой вот маленькой тайной ночной попойки. Твое здоровье!
Гольдмунд засмеялся, чокнулся и отпил. Теплое вино было приправлено корицей и гвоздикой и подслащено сахаром, такого он еще никогда не пил. Ему пришло в голову, что он уже был однажды болен, тогда Нарцисс принял в нем участие. Теперь вот патер Ансельм был так мил с ним. Ему было очень хорошо, в высшей степени приятно и удивительно лежать здесь при свете лампы и среди ночи пить сладкое теплое вино со старым патером.
– Живот болит? – спросил старик.
– Нет.
– Я-то подумал, у тебя колики, Гольдмунд. Значит, нет. Покажи-ка язык.
Так, хорошо. Старый Ансельм и здесь обознался. Завтра ты еще полежишь, потом я приду и осмотрю тебя. А вино ты уже выпил? Правильно, оно должно хорошо подействовать на тебя. Дай-ка посмотрю, не осталось ли еще. По полбокала каждому наберется, если по-братски поделим. Ты нас порядком напугал, Гольдмунд! Лежал там на галерее как труп. У тебя правда живот не болит?
Они посмеялись и честно разделили остатки больничного вина, патер продолжал свои шутки, и Гольдмунд благодарно и весело смотрел на него опять прояснившимися глазами. Затем старик ушел спать.
Гольдмунд еще какое-то время не спал. Медленно поднимались опять из глубины души образы, снова вспыхивали слова друга, и еще раз явилась его душе белокурая сияющая женщина, его мать; как теплый сухой ветер ее образ проник в него, как облако жизни, тепла, нежности и глубокого напоминания. О мать! О как же могло случиться, что он забыл ее!
До сих пор Гольдмунд кое-что знал о своей матери, но только из рассказов других; он утратил ее образ, а из того немногого, что, казалось, знал о ней, он о многом умалчивал в разговорах с Нарциссом. Мать была чем-то, о чем нельзя было говорить, ее стыдились. Она была танцовщицей, красивой, необузданной женщиной благородного, но недобропорядочного и языческого происхождения; отец Гольдмунда, так он рассказывал, вывел ее из нужды и позора, он крестил ее и обучил обрядам, женился на ней и сделал уважаемой женщиной. А она, прожив несколько лет покорно и упорядочение, опять вспомнила свои прежние занятия, оскорбляла нравственные чувства и совращала мужчин, днями и неделями не бывала дома, прослыла колдуньей и в конце концов, после того как муж несколько раз находил ее и возвращал, исчезла навсегда. Ее слава еще некоторое время давала о себе знать, недобрая слава, сверкнувшая как хвост кометы и затем угасшая. Ее муж медленно оправлялся от беспокойной жизни, страха, позора и вечных неожиданностей, которые она ему преподносила; вместо неудачной жены он воспитывал теперь сынишку, очень похожего обликом на мать; муж стал угрюмым ханжой и внушал Гольдмунду, что тот должен отдать свою жизнь Богу, чтобы искупить грехи матери.
Вот примерно то, что отец Гольдмунда имел обыкновение рассказывать о своей пропавшей жене, хотя он неохотно делал это, на что намекал настоятелю, когда привез Гольдмунда; и все это как страшная легенда было известно и сыну, хотя он научился вытеснять ее и стал почти забывать. Но он совершенно забыл и утратил действительный образ матери, тот другой, совсем другой образ, состоявший не из рассказов отца и слуг и не из темных диких слухов.
Его собственное, действительное, живое воспоминание о матери было забыто им.
И вот этот-то образ, звезда его ранних лет опять взошла. «Непостижимо, как я мог это забыть, – сказал он своему другу. – Никогда в жизни я не любил кого-нибудь так, как мать, так безусловно и пылко, никогда не чтил, не восхищался кем-нибудь, она была для меня солнцем и луной. Бог знает, как получилось, что этот сияющий образ потемнел в моей душе и постепенно превратился в злую, бледную, безобразную ведьму, которой она стала для отца и для меня в течение многих лет.
Нарцисс недавно закончил свое послушничество и был пострижен в монахи.
Странным образом переменилось его отношение к Гольдмунду. Гольдмунд же, ранее отклонявший предостережения друга, не принимая тяготившее его наставничество, со времени того важного для себя переживания, был полон изумленного восхищения мудростью друга. Как много из его слов оказалось пророчествами, как глубоко он проник в него, как точно угадал его жизненную тайну, его скрытую рану, как умно исцелил его!