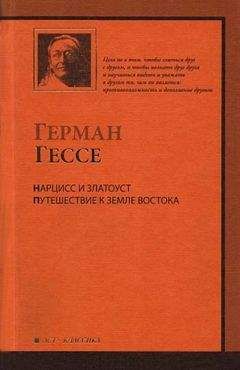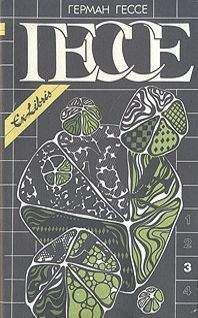Они говорили об астрологии, которой не занимались в монастыре, и она была запрещена. Нарцисс сказал, что астрология – это попытка вмести порядок в систему во все многообразие характеров, судеб и предопределении людей. Тут Гольдмунд вставил: «Ты постоянно говоришь о различиях – постепенно я понял, что это твоя самая главная особенность. Когда ты говоришь о большой разнице между тобой и мной, например, то мне кажется, что она состоит не в чем ином, как в твоей странной одержимости находить различия!» Нарцисс: «Правильно, ты попал в точку. В самом деле: для тебя различия не очень важны, мне же они кажутся единственно» важными. Я по сути своей ученый, мое предназначение – наука. А наука – цитирую тебя – действительно не что иное как «одержимость находить различия»! Лучше нельзя определить ее суть. Для нас, людей науки, нет ничего важнее как устанавливать различия, наука называется искусством различения. Например, найти в человеке признаки, отличающие его от других, значит познать его».
Гольдмунд: «Ну, да. На одном крестьянские башмаки, он – крестьянин, на другом корона, он – король. Это, конечно, различия. Но они видны и детям, без всякой науки».
Нарцисс: «Но если крестьянин и король одеты одинаково, ребенок уже не различит их».
Гольдмунд: «Да и наука тоже».
Нарцисс: «А может быть, все-таки различит. Она, правда, не умнее ребенка, что следует признать, но она терпеливее, она замечает не только самые общие признаки».
Гольдмунд: «Любой умный ребенок делает то же самое. Он узнает короля по взору или манере держаться. А говоря короче, вы, ученые, высокомерны, вы всегда считаете нас, других, глупее. Можно без всякой науки быть очень умным».
Нарцисс: «Меня радует, что ты начинаешь это понимать. А скоро ты поймешь также, что я не имею в виду ум, когда говорю о различии между тобой и мной. Я ведь не говорю: ты умнее или глупее, лучше или хуже. Я говорю только: ты – другой».
Гольдмунд: «Это нетрудно понять. Но ты говоришь не только о различиях признаков, ты часто говоришь о различиях судьбы, предназначения. Почему, например, у тебя должно быть иное предназначение, чем у меня. Ты, как и я, христианин, ты, как и я, решил жить в монастыре, ты, как и я, сын нашего доброго Отца на небесах. У нас одна и та же цель: вечное блаженство. У нас одно и то же предназначение: возвращение к Богу».
Нарцисс: «Очень хорошо. По учебнику догматики, один человек и впрямь точно такой же. как другой, а в жизни нет. Мне кажется, любимый ученик Спасителя, на чьей груди Он отдыхал, и другой ученик, который Его предал, имели, пожалуй, не одно и то же предназначение».
Гольдмунд: «Ты просто софист, Нарцисс! Таким путем мы не станем ближе друг другу».
Нарцисс: «Мы никаким путем не станем ближе друг другу».
Гольдмунд: «Не говори так!».
Нарцисс: «Я говорю серьезно. Наша задача состоит не в том, чтобы сближаться друг с другом, как нельзя сближать солнце и луну, море и сушу.
Наша цель состоит не в том, чтобы переходить друг в друга, но узнать друг друга и видеть и уважать в другом то, что он есть: противоположность другого и дополнение». Пораженный Гольдмунд опустил голову, лицо его стало печальным.
Наконец он сказал: «Поэтому ты так часто не принимаешь мои мысли всерьез?» Нарцисс помедлил немного с ответом. Затем сказал ясным, твердым голосом: «Поэтому. Ты должен приучить себя, милый Гольдмунд, к тому, что всерьез я принимаю только тебя самого. Bерь мне, я принимаю всерьез каждый звук твоего голоса, каждый твой жест, каждую твою улыбку. А твои мысли, к ним я отношусь менее серьезно. Я принимаю всерьез в тебе то, что считаю существенным и неизбежным. Почему ты придаешь такое большое значение именно своим мыслям, когда у тебя столько других дарований?» Гольдмунд горько улыбнулся: «Я же говорил, ты всегда считал меня ребенком!» Нарцисс оставался непреклонным: «Некоторые твои мысли я считаю детскими. Вспомни, мы только что говорили, что умный ребенок совсем не глупее ученого. Но если ребенок будет рассуждать о науке, ученый ведь не примет это всерьез».
Гольдмунд горячо возразил: «Да даже если мы говорим не о науке, ты подсмеиваешься надо мной! У тебя, например, всегда получается так, что моя набожность, мои старания продвигаться в учебе, мое желание быть монахом всего лишь ребячество!» Нарцисс серьезно посмотрел на него: «Я принимаю тебя всерьез, когда ты Гольдмунд. А ты не всегда Гольдмунд. Мне же хочется, чтобы ты целиком и полностью стал Гольдмундом. Ты – не ученый, ты – не монах, ученым или монахом можно сделаться и при незначительной натуре. Ты думаешь, что слишком мало учен, недостаточно силен в логике или не очень набожен для меня. О нет, но ты слишком мало являешься самим собой, по – моему».
Хотя после этого разговора Гольдмунд, озадаченный и даже уязвленный, и замкнулся в себе, уже через несколько дней он сам почувствовал потребность продолжить его. На этот раз Нарциссу удалось так представить ему различия их натур, что он принял их более благосклонно.
Нарцисс говорил мягко, чувствуя, что сегодня Гольдмунд более открыто и охотно принимал его слова, что у него есть власть над ним. Соблазнившись успехом, он сказал больше, чем намеревался, увлеченный собственными словами.
«Видишь ли, – сказал он, – я только в одном превосхожу тебя: я бодрствую, тогда как ты бодрствуешь наполовину, а иногда и совсем спишь. Бодрствующим я называю того, кто понимает и осознает себя, свои самые глубокие внерассудочные силы, влечения и слабости и умеет с ними считаться. То, что ты этому учишься, является для тебя смыслом встречи со мной. У тебя, Гольдмунд, дух и природа, сознание и грезы очень далеки друг от друга. Ты забыл свое детство, из глубины твоей души оно пробивается к тебе. Оно будет заставлять тебя страдать так долго, пока ты не услышишь его. Ну да хватит об этом! В бодрствовании, как я сказал, я сильнее тебя, здесь я превосхожу тебя и могу поэтому быть тебе полезен. Во всем остальном, милый, ты превосходишь меня – во всяком случае, ты будешь таким, когда найдешь сам себя».
Гольдмунд с удивлением слушал, но при словах «ты забыл свое детство» вздрогнул как пораженный стрелой, хотя Нарцисс не заметил этого, так как по своему обыкновению говорил с закрытыми глазами или смотря перед собой, как будто так лучше подбирал слова. Он не видел как лицо Гольдмунда передернулось и начало бледнеть.
– Превосхожу… я тебя! – заикаясь произнес Гольдмунд, только чтобы хоть что-то сказать, но весь как бы оцепенел.
– Конечно, – продолжал Нарцисс, – натуры, подобные твоей, с сильными и нежными чувствами, одухотворенные мечтатели, поэты, любящие – почти всегда превосходят нас других, нас, людей духа. Ваше происхождение материнское. Вы живете в полноте, вам дана сила любви и переживания. Мы, люди духа, хотя часто как будто и руководим и управляем вами, не живем в полноте, мы живем сухо. Вам принадлежит богатство жизни, сок плодов, сад любви, прекрасная страна искусства. Ваша родина – земля, наша – идея. Ваша опасность – потонуть в чувственном мире, наша – задохнуться в безвоздушном пространстве.
Ты – художник, я – мыслитель. Ты спишь на груди матери, я бодрст вую в пустыне. Мне светит солнце, тебе – луна и звезды, твои мечты о девушках, мои – о мальчиках…
С широко открытыми глазами слушал Гольдмунд, как говорил Нарцисс, упоенный собственной речью. Некоторые его слова вонзались в него подобно мечам; при последних словах он побледнел и закрыл глаза, и когда Нарцисс это заметил и испуганно замолчал, тот, совершенно бледный, угасшим голосом проговорил: «Однажды случилось, что я показал тебе свою слабость и плакал – ты помнишь. Этого больше никогда не случится, я никогда себе этого не прощу – но и тебе тоже! А теперь быстро уходи и оставь меня одного, ты сказал мне ужасные слова».
Нарцисс был очень смущен. Слова увлекли его, у него было чувство, что он говорил лучше, чем когда-либо. Теперь он в замешательстве видел, что какие-то его слова глубоко потрясли друга, в чем-то задели его за живое. Ему было трудно оставить друга одного в этот момент, он помедлил секунду, но нахмуренный лоб Гольдмунда заставил его поспешить, и в смятении он побежал прочь, чтобы оставить друга одного, в чем тот нуждался.
На этот раз перенапряжение в душе Гольдмунда разрешилось не слезами. С чувством глубокой и неизлечимой раны, как будто друг неожиданно всадил ему нож прямо в грудь, стоял он, тяжело дыша, со смертельно сжавшимся сердцем, с бледным, как воск, лицом, с онемевшими руками. Это было то же ужасное состояние, как тогда, только в несколько раз сильнее, опять что-то давящее внутри, чувство, что он должен посмотреть в глаза чему-то страшному, чему-то просто невыносимому. Но на этот раз облегчающие слезы не могли помочь вынести ужас. Святая Мадонна, что же это такое? Что же произошло? Его убили?
Он убил? Что же такого страшного было сказано?
С трудом переводя дыхание, он как отравленный разрывался от желания освободиться от чего-то смертельного, что застряло глубоко внутри его.