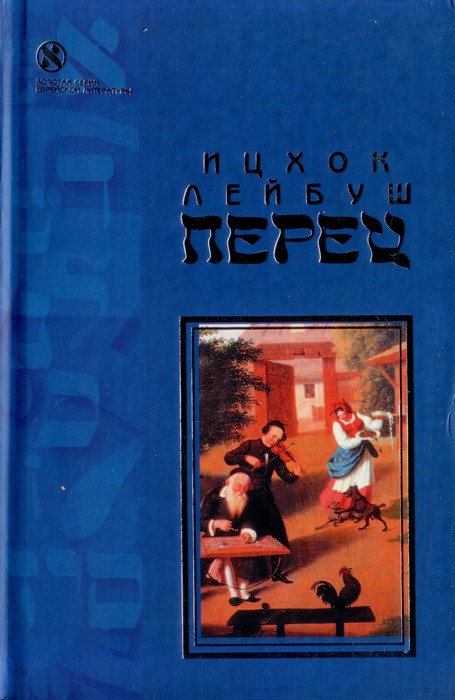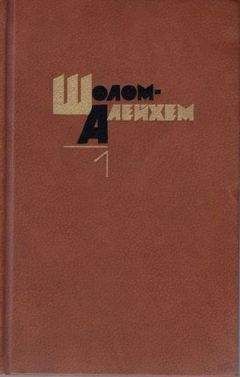всем. Если бы у всех было такое еврейское сердце, как у вас, сиротка давно бы уже не стоял на столе.
Молчание.
«Молиться»! Снова поднимается крик, шум.
— Пойдите за его женой, тогда он сейчас же убежит, — вдруг посоветовал кто-то. Иону точно обухом по голове ударило. Долговязый, большой — Иона сразу стал смешным, — он совершенно растерялся. Шутка попала в него, как камень Давида в Голиафа, прямо в цель.
— Молиться, молиться! — кричат уже громче. Иона молчит, не поднимает руки, в которой все еще держит подсвечник. Куда вся его храбрость девалась?..
И кто знает, что сталось бы с сиротой, если бы неожиданно не явилась помощь со стороны.
На ступеньки, ведущие к святому ковчегу, вдруг вскочил молодой человек с густо обросшим лицом. На его темени торчала маленькая ермолка, из-под которой в обе стороны развевались пейсы; из расстегнутого кафтана виднелись цицис. Под широким лбом сверкала пара горящих, беспокойных глаз.
Шум усилился.
— Глядите, глядите! Хаим-Шмуэль тут!
Мгновенно взоры всех обратились с амвона к ковчегу. Встревоженно поднял голову даже реб Шмерль, до сих пор спокойно сидевший над Мишной.
— Кто, кто? — спрашивает он своим слащавым, приторным голосом, в котором все же слышится испуг.
— Хаим-Шмуэль! Хаим-Шмуэль!
— Прихожане! — кричит молодой человек, стоя у ковчега. — Запомните мои слова. Во всех наших священных книгах говорится, что Господь — отец сирот. Вы не должны отвернуться от сироты, не то, Боже упаси, вы сами оставите сирот!
— Прочь, нечестивец, от ковчега!
— Не кричите! Я хочу сказать вам правдивое слово, хорошее слово!
Хорошее слово всякому хочется услышать.
— Тише же!.. Вы, евреи, — «сыны милостивцев». Сердце в вас еврейское. Почему же вы молчите? У вас, вы говорите, карманы дырявые?
Поднимается смех.
— Не смейтесь, я далек от шуток. У вас нет денег. Бедная община! У вас нет денег, у реб Шмерля тоже нет… Так что же остается? Деньги вам дам я!
При этих словах реб Шмерль начинает беспокойно ерзать на своем месте. Наконец, он закрывает Мишну, встает и тоже поворачивается к ковчегу.
— Иона! — кричит молодой человек. — Ты уже решил, кому отдать сироту?
— Ну, да, — отвечает Иона, успевший прийти в себя.
— Сколько это должно стоить?
— Рубль в неделю.
— Хорошо, слушайте же, деньги даю я. Я буду платить рубль в неделю.
— Ты, ты? — раздается со всех сторон. Всем известно, что у молодого человека ни гроша за душой.
— Не свои деньги я буду давать. Слушайте же! Деньги будут не мои, а моего шурина Айзикля.
Поднимается шум. Теперь все поняли, в чем дело. У Айзикля имеется разрешение на занятие резничеством.
Реб Шмерль бледнеет. Глаза его мечут искры, и он понемногу придвигается к ковчегу. Но раньше, чем он пробивается туда, молодой человек успевает сказать:
— Мой шурин дает подписку, что будет платить за сироту рубль в неделю до самой бар-мицве… даже до его свадьбы…
И, видя реб Шмерля уже на первой ступеньке, он торопливо выкрикивает:
— Налог будет только на птицу, только на птицу. Кричите все: «Согласны!»
Присутствующим понравился этот подвох. Все с жаром закричали:
— Да, да! Согласны, согласны! Все согласны!
Реб Шмерль уже стоял возле молодого человека, уже успел схватить его за лацкан, намереваясь стащить его вниз, но крики: «Да… согласны!..» ошеломили его.
«Резник Айзикль!» — в последний раз крикнул Хаим-Шмуэль и прыгнул со ступенек направо, не желая столкнуться с реб Шмерлем.
Реб Шмерль приходит в себя и начинает говорить, обращаясь к дайону:
— Реб Клейнимус, реб Клейнимус, как вы допустили.
Но Хаим-Шмуэль уже накинул на себя талес, стал у амвона и громко выкрикивает:
— «Вегу рахум» — «И Он милосерд»…
Присутствующие, раскачиваясь, начинают читать слова молитвы, и голос реб Шмерля тонет в общем шуме.
Реб Клейнимус продолжает стоять, закрыв лицо руками.
н идет, и ветер треплет полы его кафтана и белую бороду.
Ежеминутно он хватается рукой за левый бок, каждый раз он чувствует острую, колющую боль. Но он самому себе не хочет сознаться в этом, он хочет уговорить себя, что только ощупывает боковой карман.
«Только бы не потерял деньги и контракт!» Этого одного он будто бы боится.
«А если даже колет, так что же из того… пустяки!
У меня еще, слава Богу, хватит сил для такого конца. Другой в мои годы не прошел бы и версты, я же, слава Богу, не нуждаюсь в людской помощи, и сам зарабатываю свой кусок хлеба.
Хвала Всевышнему, люди мне деньги доверяют.»
«Если бы мне принадлежало все то, что доверяют мне другие, — продолжает он свои размышления, — я не был бы посыльным в семьдесят лет. Но если так угодно Господу Богу, то хорошо и это!»
Снег начинает падать крупными хлопьями. Старик поминутно вытирает лицо.
«Мне осталось пройти, — думает он, — полмили. Тоже конец! Пустяки. Гораздо меньше, чем я прошел».
Он оборачивается. Не видно уже ни городской башни, ни костела, ни казармы. «Ну, Шмерль, двигай!»
И Шмерль ступает по мокрому снегу. Его старые ноги вязнут в снегу, но он продолжает идти.
«Слава Богу, ветер не сильный». На его языке сильным ветром, должно быть, называется буря. Ветер был довольно сильный и бил прямо в лицо так, что поминутно у него захватывало дыхание. Слезы выступали на его старых глазах и кололи точно иглами. Но ведь глазами он всегда страдает.
«На первые же деньги, — говорит он себе, — надо будет купить дорожные очки, большие круглые очки, которые совсем закрывали бы глаза.»
«Если бы Бог захотел, я добился бы этого. Только бы иметь каждый день хоть одно поручение куда-нибудь подальше!» Идти, благодарение Богу, он еще в силах и мог бы кое-что сэкономить и на очки.
Собственно говоря, ему бы нужна и какая-нибудь шубенка, может быть, тогда не кололо бы так в груди, но пока у него есть ведь теплый кафтан.
Если бы только он не разлезался по швам, то было бы совсем хорошо. Он самодовольно улыбается. Это не из нынешних кафтанов, сшитых на живую нитку из жидкого, никуда не годного материала, — это старый, хороший ластик, который переживет, пожалуй, и меня самого! Хорошо еще, что без шлица сзади, — по крайней мере, полы не разлетаются во все стороны. А спереди они запахиваются чуть ли не на целый аршин!..
В шубе было бы, конечно, лучше. В шубе так тепло… Очень тепло. Но все-таки сперва нужно приобрести