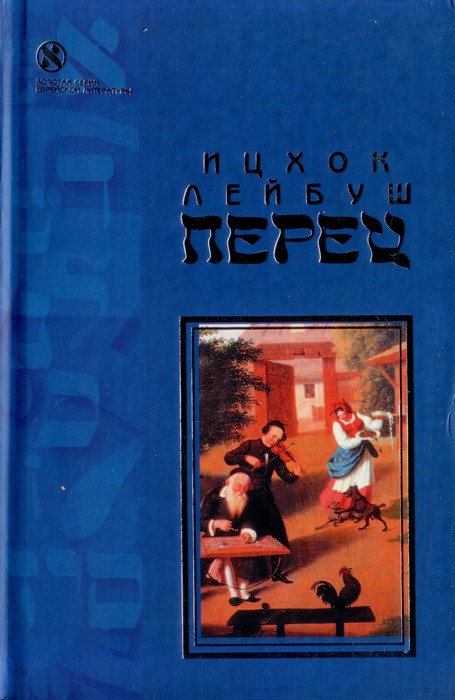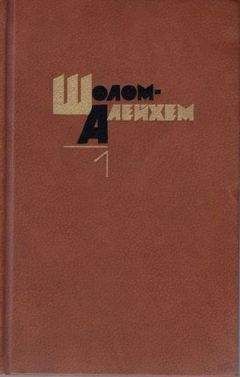прекратились откупа, она стала на себя не похожа. И то сказать, до того, как я приучился к своему теперешнему занятию посыльного, раньше, чем я научился говорить помещику: «ясновельможный пане», вместо «ваше благородие», и мне стали доверять и деньги, и документы, пришлось порядком таки поголодать…
Ну, я, мужчина, бывший кантонист, мог и не поесть денек-другой. Ей же, бедняжке, это стоило жизни. Глупая женщина, чуть что, она теряет силы, под конец она и браниться не могла уже, как следует; куда девалась вся ее прыть! Она только и умела, что плакать.
Это отравляло мне жизнь. Не знаю почему, она стала вдруг бояться меня. А когда она боится, я начинаю куражиться, кричу и бранюсь. Кричу я ей: «Почему жрать не идешь ты?» Иногда она доводила меня до бешенства, до того, что я чуть ли не с кулаками набрасывался на нее.
Но как бить плачущую женщину, когда она сидит сложа руки и с места не двинется? Только я побегу с кулаками и поплюю на них… а она говорит мне: «Поешь ты раньше, а я после поем.» И я принужден был сперва сам поесть хлеба, а ей предоставить остатки…
Иногда она для отвода глаз усылала меня куда-нибудь на улицу: иди, я без тебя поем, — может быть, ты заработаешь что-нибудь, и при этом старается улыбнуться и даже приласкаться иногда.
А когда я возвращался, то находил хлеб почти нетронутым.
Она старалась, бывало, уверить меня, будто не может есть сухого хлеба и будто ей нужна каша.
Он опускает голову, точно на него навалили тяжелую ношу, и грустные мысли, одна другой быстрее проносятся в его голове.
И какой рев подняла она, когда я хотел заложить свой субботний кафтан — тот, что теперь на мне. Ужас, что она вытворяла и со всех ног побежала заложить свои медные субботние подсвечники.
И до самой своей смерти она молилась уже над свечами, вставленными в картофель… Перед смертью она призналась мне, что никогда не хотела развода и что говорила это только со злости.
— Язык мой, язык мой! — вопила она, — Боже милосердный, прости мне мой язык.
И она так и умерла в страхе, что ее на том свете повесят за язык.
— Бог, — говорила она, — не будет милосерд ко мне; чересчур уж много грешила я. Только когда ты придешь туда, — не скоро, Боже упаси, а через сто двадцать лет, поскорей сними меня с виселицы. Скажи Всевышнему, что ты простил меня…
Она уже почти потеряла сознание, как вдруг стала звать детей. Ей казалось, что они здесь, около нее, и она стала просить и у них прощения.
Глупая женщина, как будто кто-нибудь не простил ее.
Сколько ей было всего? Лет пятьдесят! Умерла такой молодой! Шутка сказать, когда человек все так близко принимает к сердцу. Когда уносилось что-нибудь из дому — ей казалось, что уносят часть ее собственного тела, половину ее здоровья.
Что ни день, она становилась все желтее и зеленее, и как-то вся высохла и ростом стала меньше.
Она говорила, что чувствует, как у нее мозг в костях высыхает…
Она знала, что умирает.
Как она любила дом со всем, что в нем находилось! Что бы ни уносили — стул, железную сковороду, что бы то ни было, она обливала все это горькими слезами. С каждой вещью она прощалась, как мать с ребенком, чего вам больше — обнимала и чуть ли не целовала их… «О, говорила она, когда я умру, вас уже не будет в доме».
Что говорить, женщина всегда останется дурой… То она казак в юбке, а чуть что становится настоящим ребенком. Подумаешь, не всели равно, когда умираешь со стулом или без стула!..
— Фу! — прерывает он сам себя. — Что только не приходит мне в голову… Из-за пустяков я зашагал совсем медленно.
— Ну, солдатские ноги, живее ступайте! — командует он.
Он оглядывается. Вокруг него сплошной снег. Наверху — серое небо, испещренное черными заплатами. — Совсем как моя нижняя бекета! — думает он. — Неужели, Великий Боже, и у тебя нет кредита в лавке?..
Меж тем мороз усиливается. Борода и усы превратились в сосульки. Дышать стало как будто легче, но голова горячая, на лбу выступили капли пота, и ноги что ни шаг все больше устают и зябнут. Ему хочется присесть, но он стыдится самого себя. Первый раз в жизни у него является потребность отдохнуть на таком небольшом пути — в две мили. Он не хочет сознаться, что ему уже за семьдесят и пора бы совсем на отдых.
Но нет. Он должен идти. Идти не останавливаясь… Пока идешь — ноги несут тебя, но стоит поддаться искушению и присесть, — и ты уже никуда не годен.
— Так и простудиться можно, — стращает он сам себя, всячески стараясь побороть в себе сильное желание отдохнуть.
— Недалеко уже и до деревни, успею и там отдохнуть.
— Непременно надо будет отдохнуть. Я пойду не прямо к помещику… его приходится целый час прождать на дворе… пойду сперва к еврею.
— Хорошо еще, — думает он, — что я не боюсь помещичьих собак; но ночью, когда спускают Бурого, все-таки становится опасно; у меня хотя с собою мой ужин, а Бурый любит сыр, но все же лучше раньше дать отдых своим костям. Сперва я зайду к еврею; погреюсь немного, помою руки, перекушу чего-нибудь…
И у него текут слюнки; он с самого утра ничего не ел. Но это пустяки, его не беспокоит то, что он голоден, это доставляет ему даже удовольствие: если человек голоден, это признак, что он живет… Но ноги!..
Ему осталось пройти всего каких-нибудь две версты; он различает уже в темноте большие сараи помещика… но ноги — они ничего не видят, они все-таки требуют отдыха…
— С другой стороны, — думает он, — что, если я и отдохну немножко? Одну минутку, полминутки! Может быть, и в самом деле отдохнуть? Попробую. Так долго слушались меня мои ноги, послушаюсь и я их хоть раз.
И Шмерль садится в сторонке на снежный сугроб. Теперь только он слышит, как сильно бьется его сердце, как сильно колет в боку, и чувствует, что холодный пот выступил у него на лбу…
Ему становится страшно… Не заболевает ли он? При нем чужие деньги! Он может еще, Боже упаси, потерять сознание… Слава Богу, — утешает он себя, что никого не видно! А даже если бы и проходил кто-нибудь, ему и в голову не придет, что у меня деньги. Курам на смех — кому