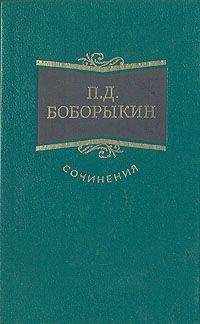Он уже запомнил теплое восклицание Хрящева: "все чудо!" — где прорвалось его отношение к жизни всего сущего.
Последнюю полоску света заволокло; но тучи были не грозовые, темноты с собой не принесли, и на широком перелеске, где притулились оба озерка, лежало сероватое, ровное освещение, для глаз чрезвычайно приятное. Кругом колыхались нешумные волны леса, то отдавая шелковистым звуком лиственных пород, то переходя в гудение хвои, заглушавшее все остальные звуки.
И среди этой музыки не переставал проноситься один лишь птичий звук:
— Тю-ить! Тю-ить! Тю-ить!..
Помнил его Теркин с детства самого раннего. Наверное знал мальчиком, какая птица издает его, но теперь не мог сказать. Это его как будто огорчило. Спрашивать у Хрящева он не захотел. Ему уже больше не говорилось… Весь он ушел в глаза и слух.
Замедленным, немного усталым шагом держались они левой руки. Там, по их соображениям, шла новая просека, проведенная недавно таксатором Первачом.
— Тю-ить, тю-ить, тю-ить! — пускала все оттуда же неизвестная Теркину птица.
Он шел опять впереди. Нога его попадала то на корни, то на муравьиные шишки. Кусты лиственных пород все густели.
— Антон Пантелеич! — окликнул он Хрящева, пробиравшегося осторожно.
— Здесь.
— Не сбиться бы нам?
— Помилуй Бог, Василий Иваныч!
Из-за колючих ветвей лесного шиповника, покрытого цветами, выглянуло широкое лицо Хрящева. В одной руке он держал что-то блестящее. стр.464
— Что это у вас? — спросил Теркин.
— Карманный компас, никогда не расстаюсь. Мы идем правильно. Вот север. Усадьба лежит па юго-востоке.
Выйти нам надо на северо-запад.
Ветер притих, а небо все еще оставалось сереньким, с разрыхленными облаками, и между ними бледная лазурь проглядывала там и сям.
Лес поредел. Под ними зачуялся покатый подъем. На небольшой плешинке выделялось округлое место, обставленное матерыми елями, похожее на шатер.
— Не угодно ли отдохнуть?.. Вон там… в гнезде?
Они присели на самой средине, где совсем плоский пень столетней ели, почернелый и обросший кругом папоротником, служил им покойным диваном.
— Я такие места гнездами называю, Василий Иваныч, — отозвался Хрящев своим особым тоном, какой он пускал, когда говорил по душе. — Вот, изволите видеть, под елями-то, даже и в таких гнездах, всякий злак произрастает; а под соснами не было бы и на одну пятую. Рябина и сюда пробралась. Презорство! Зато и для желудка облегчительна… И богородицыны слезки!
Он говорил это вполголоса, как бы для себя.
— Чего-чего вы не знаете, Антон Пантелеич! А поглядишь на вас спервоначалу — как прибедниваетесь! Ну, вот былинка! — Теркин сорвал стебелек с цветом и подал Хрящеву. — Я ее с детства знаю и попросту назову, а вы, поди, наверное и по-латыни скажете…
— Уж эту-то не назвать, Василий Иваныч!.. За что же меня обучали на счет общества?
— Однако как?
— Leontodon taraxacum.
— Вот я не знаю. И не слыхал даже. А я три речи Цицерона в гимназии знал наизусть, и на какой они мне шут?
— Все нужно, Василий Иваныч.
Над самыми их головами жалобно протянулся птичий крик высоко в небе.
— Ястреб? — вопросительно сказал Теркин.
— Ждет бури… только бури-то не будет, — с капелькой яда выговорил Хрящев, особенно не любивший хищников.
Они сидели тут молча, среди сильного гула хвои и густой травы, каждый в своих мыслях.
В лесу совсем смолкло. Зачирикали и залились птицы. Небо над ними голубело. Минут через пять стр.465 вдали где-то, не то сзади, не то сбоку, начало как будто хрустеть.
Хрящев уже прислушивался к этому звуку, когда Теркин окликнул его.
— Не узнаете? — спросил Хрящев и подмигнул.
— Порубка?
— Никак нет. Это — Топтыгин Михаил Иваныч.
— Медведь?
— Он, он!..
Глазки Хрящева ласково заискрились.
— В какую же сторону ломит?
Теркин подавил в себе беспокойство и желание встать.
— Как будто вот сюды, в эту сторону… Да ведь он не тронет. Только его не замай. Он теперь сытый… Идет побаловаться чем-нибудь к опушке… Зверь мудрейший и нрава игривого… Травоядный! Грызун, по-ученому.
Спокойно и достолюбезно вымолвил Хрящев последние слова. Теркин вытянул ноги, подложил под голову обе руки и, глядя в ленту неба, глядевшую вниз, между высоких елей, сладко зевнул и повернулся к своему подручному.
— Тайна все, в нас и вокруг нас, так ведь, Антон Пантелеич?
— Тайна! — с замедленным вздохом выговорил Хрящев и тоже прилег на мураву.
Веселая птичка пустила опять над ними свое: тюить, тю- ить, тю-ить!
Со стола еще не убрали десерта, бутылок с вином и чашек от кофе.
В зале городской квартиры Низовьева, часу во втором, Серафима и Первач, низко наклонившись над столом, сидели и курили. Перед ними было по рюмке с ликером.
Разговор пошел еще живее, но без раскатов голоса Серафимы, как в начале их завтрака. Прислуга не входила.
— Да вы полноте, Николай Никанорыч, не извольте скромничать… Ведь я для господина Теркина — особа безразличная. Прав на него никаких не имею… значит. Целованье у вас было с тем сусликом, а?.. стр.466
Первач сидел красный, с возбужденными веками своих маслянистых и плутоватых глаз, весь в цветном. Кольца на его правой руке блестели. Мизинцем он снимал пепел с папиросы и поводил смешливо глазами.
В голове его немножко шумело. Серафима угощала его усиленно, пила и сама, но гораздо меньше. Она расшевелила в нем все его позывы, расчеты, влюбленность в свою красоту, обиду за то, как с ним обошлись в
Заводном, откуда его удалили так быстро и решительно. В
Серафиме он нашел нежданную покровительницу. Через нее он получил у Низовьева место заведующего всеми его лесными угодьями… Да, такой женщины он еще не встречал. Низовьев — в ее руках, и вряд ли она ему отдалась. Кто знает!.. Может, она выберет сначала его в тайные друзья…
— Да ну же! кайтесь! — понукала Серафима и через стол дернула его за рукав.
Ее янтарная бледность перешла в золотистый румянец…
Легкий, полупрозрачный пеньюар развевался на руках; волосы были небрежно заколоты на маковке.
— У меня есть на это правило, — выговорил Первач, поводя глазами, — даже когда та, кто была со мной близка и не заслуживала бы джентльменского отношения к себе.
— Да уж нечего!.. Чмок-чмок было?
— Если угодно, да.
— А может, и больше того?
— Не находил нужным торопиться.
— И наверно эта девчонка сама первая полезла к вам целоваться? Так только, цып-цып ей сделали? Это сейчас видно: рыхлая, чувственная, с первым попавшим мужчиной сбежала бы! И господин Теркин, выходит, тут же и врезался; и начали они проделывать Германа и Доротею.
— Как вы назвали?
— А вы не читали?
— Нет, не приводилось.
— Есть такая поэма Гете… Я в русском переводе в гимназии читала. Еще старее истории есть: Дафнис и Хлоя, Филемон и Бавкида, в таком же миндальном вкусе…
Глаза ее метали искры; рот, красный и влажный, слегка вздрагивал. Внутри у нее гремело одно слово: "подлецы!" стр.467
Все мужчины — презренная дрянь, все: и этот землемеришка, и тот барин-женолюб, которого она оберет не так, как его парижская «сударка», а на все его остальное состояние. Но презреннее всех — Теркин, ее идол, ее цаца, променявший такую любовь, такую женщину на что и на кого? На «суслика», которого землемеришка довел бы до "полного градуса" в одну неделю!
— Ха-ха! — разнесся по комнате ее смех. — Ха-ха! Чудесно! Превосходно! Отчего же вы ему не отрапортовали… хоть в письме? Благо по его приказу его будущая роденька вас вытурила так бесцеремонно!
— Я выше этого.
— Полноте! Оттого, что суслик этот уж больно легко вам доставался! А может, она и продалась ему… знаете… в институтско-дворянском вкусе…
— Вряд ли!.. Я и сам не ожидал от нее того… как бы это сказать… тона, с каким она…
— Вам коляску подала? На это подлости хватит у всякой безмозглой бабенки.
Сама Серафима не входила в это число. Она положила всю себя на одну безраздельную страсть — и так гнусно брошена человеком, пошедшим в гору "на ее же деньги"! Еще добро бы на ту "хлыстовскую богородицу" он променял ее в порыве глупого раскаяния, в котором никто не нуждался. Святостью взяла Калерка, да распущенными волосами, да ангельски-прозрачной кожей. А тут? Пузырь какой-то, золотушный помещичий выродок. Захотел дворянку приобрести вместе с усадьбой, продал себя своему чванству; а поди, воображает, что он облагодетельствовал всю семью и осчастливил блудливую девчонку законным браком!
Все это казалось ей так низко и пошло. А между тем она не могла оторваться от всего этого, и если б Первач знал подробности того, как Теркин сближался с «сусликом», она бы расспрашивала его целый день… Но он ничего не знал или почти что ничего.