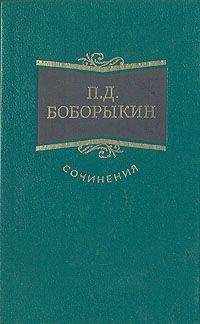— Помолвка была ли? — спросила она, не дожидаясь ответа на свои бесцеремонные слова насчет «коляски», поданной ему барышней.
— Не знаю-с! — выговорил чопорнее Первач. — Да и нимало не интересуюсь.
И этому "лодырю", — она так уже про себя называла его,
— хотелось ей показать, что он такой же пошляк и плут, как и все вообще мужчины. Но он стр.468 сейчас понял и не хвастал. Девчонка амурилась с ним перед самым приездом Теркина в Заводное. Чего бы лучше преподнести Василию Ивановичу сюрпризец в виде письма и прописать в нем, какое сокровище он обрел, с лодырем землемеришкой? Точно горничная в саду амурилась, — так, здорово живешь! Вот так идеал! Вот так желанная пристань, куда он причалил!
В груди у нее стянуло точно судорогой. Она уже писала в воображении это письмо, и яд лился у нее с пера. О! она сумеет показать, что и ее недаром выпустили с золотой медалью. Не чета она тупоголовой и мучнистой девчонке из губернского института…
Внезапная мысль брызнула на нее холодной струей. Та могла ведь и сама повиниться ему, когда он попросил ее руки; поди, разрюмились оба, и он, что твой раскольничий начетчик, дал ей отпущение в грехах, все простил и себя в собственных глазах возвеличил.
Да если б и этого не было — не хочет она рук марать. Писать без подписи, измененным почерком — подло! А от своего имени — только большего срама наесться!
Все равно. Она резнула себя по живому мясу. Любовь ухнула. Ее место заняла беспощадная вражда к мужчине, не к тому только, кто держал ее три года на цепи, как рабыню безответной страсти, а к мужчине вообще, кто бы он ни был. Никакой жалости… Ни одному из них!.. И до тех пор пока не поблекнет ее красота — не потеряет она власти над теми, кто подвержен женской прелести, она будет пить из них душу, истощать силы, выжимать все соки и швырять их, как грязную ветошь.
Небось! В них не будет недостатка. Первый Низовьев уже весь охвачен старческим безумием. Она не положит охулки на руку. Если его парижская любовница — графиня — стоила ему два миллиона франков, то на нее уйдут все его не проданные еще лесные угодья, покрывающие десятки тысяч десятин по Волге, Унже, Ветлуге, Каме!
И, точно спохватившись, как бы не потерять много времени, она откинулась на спинку стула и деловым, отрывистым тоном окликнула:
— Первач!
— Что угодно, Серафима Ефимовна?
— Павел Иларионыч должен вернуться к обеду?
— Так точно. стр.469
— Долго я с вами растабарывать не стану. Вы меня поняли вчера? А?
— Превосходно понял, Серафима Ефимовна.
— Хотите быть главноуправляющим — не забывайте, кто ваше начальство.
— Хе-хе! — Сдержанно пустил Первач веселым и злобным звуком. — Мать-командирша — Серафима Ефимовна. Так и подобает.
— То-то! А теперь я вас не удерживаю. Мне надо одеться.
— Имею честь кланяться.
Он удалился с низким поклоном, но в его масляных глазах мелькнула змейка. Влюбленный в себя хищник подумал тут же: "дай срок — и ты поймаешься".
По уходе его Серафима сидела минуты с две в той же откинутой позе, потом порывисто положила на стол полуобнаженные руки, опустила на них голову и судорожно зарыдала. Звуки глохли в ее горле, и только грудь и плечи поводило конвульсией.
XXXIV
Огненной полосой вползала вечерняя заря в окна, полузатворенные ставнями. На постели лежала Серафима, в том же утреннем пеньюаре, в каком завтракала с таксатором.
С ней сделался припадок, и она не могла одеться к возвращению Низовьева. Припадок был упорный и долгий. Ее горничная Катя, вывезенная из Москвы, ловкая и нарядная, в первый раз испугалась и хотела послать за доктором, но барыня ей крикнула:
— Не хочу доктора!.. Оставьте меня!..
Несколько часов пролежала она одна, с полузакрытыми ставнями, осиливая приступ истерики. Такой "сильной гадости" с ней еще ни разу не бывало, даже тогда, как она была выгнана с дачи после покушения на Калерию.
Это ее возмутило и срамило в собственных глазах. Все из-за него, из-за презренного мужчины, променявшего ее на суслика. Надо было пересилить глупый бабий недуг — и она пересилила его. Осталась только тупая боль в висках. Незаметно она забылась и проспала. стр.470
Когда она раскрыла отяжелевшие веки, вечерняя заря уже заглянула в скважины ставень. В доме стояла тишина; только справа, в комнатке горничной, чуть слышно раздавался шепот… Она узнала голос Низовьева.
Наверное он уже в десятый раз приходил узнавать, как она себя чувствует и не лучше ли послать за доктором.
Чего еще ей надо? Этот барин в несколько раз богаче Теркина. Первач дал ей полную роспись того, что у него еще остается после продажи лесной дачи теркинской компании… На целых два миллиона строевого лесу только по Волге. Из этих миллионов сколько ей перепадет? Да все, если она захочет.
Разве она сразу попустила себя до положения его временной содержанки? Как бы не так! Она и здесь живет как благородная дама, которая осчастливила его тем, что согласилась поместиться в его квартире; а сам он перешел во флигелек через двор. Между ними — ни малейшей близости.
Низовьев прекрасно понимает, что приобрести ее будет трудно, очень трудно. На это пойдет, быть может, не один год. В Париж он не вернется так скоро. Где будет она, там и он. Ей надо ехать на Кавказ, на воды. Печень и нервы начинают шалить. Предписаны ей ессентуки, номер семнадцатый, и нарзан. И он там будет жариться на солнце, есть тошную баранину, бродить по пыльным дорожкам на ее глазах, трястись на казацкой лошади позади ее в хвосте других мужчин, молодых и старых. А потом — в Петербург!
У нее есть еще свои деньги. Она там заживет дамой "из общества". Имеет на то законное право. Кто она? Как прописывается? Вдова коллежского советника
Рудич. Свекор ее — сановник… И до того она доберется.
Нужды нет, что убежала от его сынка. Сановник, ей это донесли, — так же, как и сын, любит карты и всякое транжирство; состояния нет, жалованья всего семь тысяч — не раскутишься! — долгов множество, состоит прихвостнем у какого-то банкира… Ничего не будет стоить подобраться к нему, — он ее никогда не видал, — заставить полюбить себя, помочь ему в его делишках. Одного Шуева — ее «ангела» — достаточно. стр.471
Тот не то что даст взаймы свекру, сколько она прикажет, — сам себя заложит, взломает сундук дяденьки-благодетеля.
Только она таких «ангельских» денег не хочет… И от Низовьева может пользоваться свекор.
Потом настанет черед Парижа. Там она заберет его уже вплотную! И у нее будет «отель» на миллион франков. Ее имя прогремит. Не кокоткой она себя поставит, а настоящей барыней. В год ее французский язык получит парижский звук. Захочет — будет зваться "madame la comtesse Rouditsch"; поди разбирай, графиня она или нет, когда в «Figaro» станут так называть ее репортеры! Еще жену его заставит и дочерей ездить к себе с визитом и на вечера с "tout Paris", где она будет петь русские романсы с самим Иваном Решке. Все будет!
И только?.. Неужели только? Серафима закрыла глаза и повела по лицу ладонью правой руки.
Перед ней, — точно живой, с трепетом дубовой листвы, с зеленой муравой, с порханьем мягкого ветерка, — тот склон, где они сидели под дубом в Заводном, с ним, с "Васей"!
Она слышит его голос, где дрожит сердечное волнение. С ней он хочет братски помириться. Ее он жалеет. Это была не комедия, а истинная правда. Так не говорят, так не смотрят, когда на сердце обман и презрительный холод. И что же ему делать, если она для него перестала быть душевно любимой подругой? Разве можно требовать чувства? А брать в любовницы без любви — только ее позорить, низводить на ступень вещи или красивого зверя!
Как это ясно и просто! Ни в чем он не виноват. Она — безумная и злая баба — распалилась к нему злобой, не поняла его души, не схватилась за его жалость к ней, за братскую доброту, как за драгоценный клад!..
Глаза ее делались влажны; но она не заплакала; лежала недвижно, опустив руки на одеяло… Ей так сладко вдруг стало мыслью своей ласкать образ Васи, припоминать его слова, звук голоса, повороты головы и всего тела, взгляды его в начале и в середине их разговора.
Так отрадно ей было чуять, что с души у нее что-то такое спадает, что грызло тело и мутило разум.
Образы — все на том же зеленом косогоре парка — изменились. стр.472
Не она сидит с ним, а другая… та девчонка… Как отчетливо видит она ее; нужды нет, что только мельком оглядела, когда проходила на балкон: это пухлое розовое личико, ясные глаза, удивительные руки, косу, девичий стан. Да.
Она — непорочная девица, даром что целовалась с таксатором. Ее голубиная кротость и простоватое детство притянули Васю… Великая есть сила в таких
"ничевушках", когда они пышут свежестью восемнадцати лет и целомудрия. Да, целомудрия! Ни у кого она в объятиях не была, не подпадала еще под зверство мужского обладания.