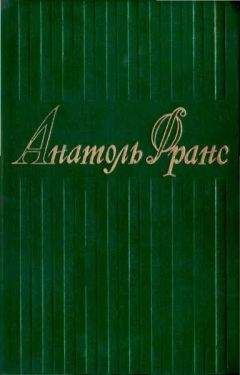Я мало что усвоил из геометрии на этих занятиях, зато вкусил радости дружбы. Мне было необычайно приятно видеть Дерэ, болтать и смеяться вместе с ним. С этих пор я искал его общества и принимал участие в его играх. Когда вошли в моду ходули, Дерэ, как, всегда следуя моде, достал себе пару. Я тут же последовал его примеру и взгромоздился на такие же высокие ходули, хотя ужасно боялся упасть, зная свою неловкость. Я, который прежде не выносил никакой беготни, теперь не пропускал ни одной игры в горелки или в лапту. Скажу, не хвалясь, что у меня всегда была наклонность делать подарки, — не хватало только повода ее удовлетворить. Теперь я постоянно доставлял себе это удовольствие. Заметив, что Дерэ любит писчебумажные принадлежности, я дарил ему самые красивые тетради, какие только мог найти в лавочке г-жи Фюзелье, — тетради в переплетах из белого полотна, черного шагреня, сафьяна Лавальер, и записные книжки с золотым обрезом. Я преподнес ему ручку для перьев, сделанную из иглы дикобраза, с серебряной шишечкой на конце, и карманную чернильницу из кожи ската. Я совсем разорялся; матушка была поражена расстройством моих финансов и назойливыми просьбами дать еще денег.
Дерэ не отличался ни глубоким умом, ни трудолюбием, но ему все давалось легко, и, обладая искусством нравиться, он умел втереться в компанию избранных, в ряды тех, кого мой крестный, палеонтолог, называл «приматами». Дружба к нему возбудила во мне дух соревнования, и я на некоторое время поднялся в те же сферы, но это стоило мне огромных усилий, так как мне не хватало его обаяния.
Я искал его общества гораздо больше, чем он моего, и после уроков геометрии провожал его до самого дома, на улицу св. Доминика, хотя это было мне не по дороге. Однажды вечером на перекрестке Красного Креста мы встретили капрала-пожарного Дюлюка, нашего преподавателя гимнастики.
— Давай-ка напоим его пьяным, — шепнул мне Дерэ.
И, остановив молодого солдата, застенчивого и красневшего, как девушка, он затащил его в табачную лавочку на перекрестке и угостил водкой и табаком. Мы подняли бокалы за его здоровье. Нам не удалось напоить пьяным пожарного, зато у меня страшно разболелась голова. В другой раз Дерэ заставил меня выкурить мэрилендскую папиросу, после чего меня затошнило. Словом, каждый день я открывал в своем друге все новые достоинства и все больше им восхищался.
Дерэ происходил из офицерской семьи и сам готовился вступить в армию. Я тоже стал мечтать о военной карьере, которая до сих пор нисколько меня не привлекала. Я уже воображал себя лейтенантом, капитаном, доблестным, кротким и меланхоличным, как офицеры Альфреда де Виньи[355]… В ожидании я тщетно искал случая каким-нибудь славным подвигом доказать Дерэ мою привязанность.
Однажды в каком-то сборнике греческой поэзии я прочел надгробную надпись на могиле юного Аминтора, сына Филиппа, который погиб во время битвы, прикрыв друга своим щитом. Я затрепетал и ощутил непреодолимое желание умереть за Дерэ.
Эта героическая дружба оборвалась мгновенно. Как-то осенью, на большой перемене, капитаны команд Дерэ и Ла Бертельер затеяли сыграть в лапту и стали набирать себе игроков. Сославшись на то, что я очень плохо играю, в чем он был совершенно прав, Дерэ не принял меня в свою команду, В досаде я тут же с ним порвал, без сожалений и раскаянья, чувствуя, что мы никогда уже не помиримся.
И друг, за которого накануне я готов был умереть, сразу стал мне безразличен.
Sanguineis frontem moris et tempora pingit.[356]
— Пьера узнать нельзя, — сказала матушка, — характер у него стал странный, неровный. То он веселится без воякой причины, то вдруг начинает хандрить.
— Ему нужен свежий воздух и побольше движения, — решил отец.
В половине августа мои родители, считая, что деревня принесет мне пользу, но не имея возможности покинуть Париж, отправили меня на время к Исидору Гонзу, внучатному племяннику г-жи Ларок, земледельцу в поселке Сен-Пьер, около Гранвиля.
В те годы железная дорога доходила до Карантана. Из этого портового городка, где на кривых улочках, прислонясь к стенам старых домов, сидели с работой загорелые кружевницы, дилижанс довез меня до Гранвиля.
Там поджидал меня папаша Гонз. Выпив в местном кабачке по две кружки крепкого сидра, от которого у меня разболелась голова, мы уселись в двуколку и покатили в деревню Сен-Пьер, где папаша Гонз был мэром и владел тучными землями, приносившими ему большой доход.
Он был крепкого сложения, краснолицый, молодец выпить, мастер наживаться, едва умел читать, но знал законы лучше нотариуса и на своем простонародном языке рассказывал забавные истории не хуже Бероальда де Вервиля[357]. Его сухонькая старообразная жена держалась с достоинством и одеждой и манерами чуть походила на монахиню, как многие зажиточные крестьянки в ту пору. Дочка их, Матильда, крепостью и здоровьем пошла в отца; несмотря на пунцовый румянец и безвкусные наряды, она, пожалуй, была хороша собой и, как и ее родители, вовсе не глупа. Но я не обращал на нее внимания; робкий и застенчивый, И виделся с хозяевами только за завтраком и обедом, где они, на мой взгляд, слишком долго засиживались. Они медленно, не торопясь, как любят сельские жители, распивали кофей с ликером, и эти трапезы были для меня нестерпимы. Я спешил убежать в поля, вернуться к одиночеству, населенному видениями моих грез.
Деревня простиралась к югу до большой дороги, а с северной стороны выходила на пруд, где летали парами белые бабочки, и на рощицу с остатками высокого строевого леса, который приводил меня в восхищение. В пятистах шагах от леса, окруженный глубокими рвами, над которыми в вечернем воздухе плясали рои мошек, возвышался заброшенный замок Сен-Пьер, где жили теперь одни галки. Потолки обвалились, и только длинные дымовые трубы, еще державшиеся в стенах, указывали на высоту этажей. Я постоянно бродил вокруг замка и карабкался по развалинам, в которых гудел ветер.
Я сильно переменился и сам себя не узнавал. Я много гулял, бегал, с наслаждением продираясь сквозь колючий кустарник. Прежде такой неловкий, теперь я лазал по деревьям, как кошка, а порою проводил целые дни, не шевелясь, ни о чем не думая, сидя на ветвях дуба-великана, который вздымал к небу свои корявые могучие руки. А иногда, забравшись в самую чащу леса, я ложился на мох и дремал, слушая таинственный шелест листвы.
Однажды утром я отправился пешком в Гранвиль, находившийся на расстоянии всего двух лье от деревни Сен-Пьер. Под низким ненастным небом, вдыхая запах моря, занесенный соленым бризом, я прогуливался по тем местам, где почти сто лет назад расцветала, как яблонька, юная и прелестная г-жа Ларок. Я смотрел на старые крепостные стены, в которые шуаны втыкали штыки, чтобы, взобравшись по ним, как по лестнице, идти на приступ[358]. Облокотясь на ограду, я долго глядел на рыжеватые скалы, на длинный, покрытый водорослями берег, где волны оставляли пену, вздымаемую ветром, на широкое море, еще более мрачное и угрюмое, чем море у побережья Киммерии, о котором рассказывает нам старый Гомер[359].
Сердце у меня разрывалось, исполненное тоски и тревоги. Я рыдал, я жаждал умереть, не от усталости или разочарования, но от невыразимой красоты и прелести жизни, от влечения к смерти, ее сестре и подруге, навеки слитой с нею воедино; я так страстно любил природу, что мечтал раствориться в ней, забыться на ее лоне. Никогда еще она не казалась мне такой пленительной. Теплый благоуханный воздух проникал мне в грудь, вечерние дуновения нежно ласкали меня, вызывая неведомый трепет.
Думая, что я скучаю, папаша Гонз дал мне старое ружье и посоветовал ради развлечения поохотиться на дичь. Я пошел стрелять галок, гнездившихся на стенах старого замка. В одну из них я попал. Я видел, как она падала с подстреленным крылом; одно из перьев еще парило в воздухе и медленно опускалось вслед за ней. А в это время стаи птиц, которых я потревожил в развалинах, кружили над моей головой и испускали пронзительные крики, звучавшие в моих ушах как проклятия. Я в ужасе убежал. Мое преступление казалось мне отвратительным. Я дал себе клятву никогда больше не убивать ни птиц, ни животных.
Я вынул Вергилия, которого захватил с собой в чемодане, и начал читать, перечитывать, напевать про себя его стихи, обливаясь слезами и трепеща от восторга. После беготни и прогулок наступили дни сонного оцепенения.
В одно жаркое утро, когда я дремал в лесу под густой листвой, пронизанной золотыми стрелами солнца, меня разбудило прикосновение чьей-то руки к моему лицу. Это Матильда, хозяйская дочка, давила шелковичные ягоды на моей щеке и висках, не подозревая, что подражает в этом Эгле, прекраснейшей из наяд, которая вымазала пурпурным соком лицо спящего Силена. Но Матильда Гонз, зная мою бесталанность, не попросила меня, как Эгле — божественного Силена, исполнить одну из тех песен, что очаровывали пастухов, фавнов и диких зверей. Не дожидаясь моего пробуждения, она поспешно убежала с веселым смехом.