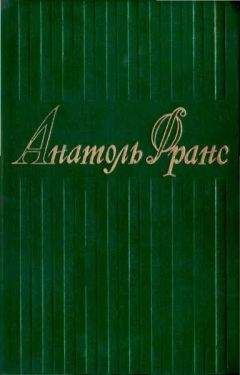Обыденная жизнь, к которой я возвращался в антрактах, казалась мне грубой и отвратительной, а крики продавцов: «Сироп, лимонад, пиво!» — хоть и были новы, непривычны для моего слуха, — оскорбляли меня своей пошлостью.
Я прочел в программе, что роль Маргариты Шотландской исполняет мадемуазель Изабелла Констан, и это имя огненными волшебными письменами запечатлелось в моем сердце. Я еще не настолько лишился рассудка, чтобы спутать действующее лицо с исполнительницей; но я мысленно приписал мадемуазель Констан черты характера Маргариты Шотландской, как ее изобразил в пьесе драматург, — любовь к искусству, благородное сердце, романтическую грусть.
В последнем антракте к нам в ложу зашел автор, высокий прыщеватый человек с проседью, и почтительно склонился перед матушкой. Напрасно он гладил меня по голове, как некогда делала Рашель, напрасно ласково расспрашивал об успехах в ученье, хваля за раннюю любовь к литературе, напрасно советовал хорошенько изучить латынь, утверждая, что знанию латыни он обязан красотой своего слога, чем выгодно отличается от литературных собратьев, которые пишут как сапожники. Я отвечал невпопад и даже не глядел на него. Знай он причину моего безразличия, он был бы польщен, но, должно быть, он просто счел меня дураком, не догадываясь, что я совершенно ошеломлен его пьесой. Занавес поднялся. Я снова ожил. Я вновь обрел Маргариту Шотландскую. Увы! Я нашел ее, чтобы тут же потерять навеки. Она погибла от злодейской руки дофина Людовика в ту минуту, как стрелок Рауль бросился перед ней на колени. Стрелка Рауля сразил тот же кинжал, и, умирая, он узнал, что был любим. Как я завидовал его участи!
С каким надменным презрением смотрел я на утреннем уроке в понедельник на учителя, который втолковывал нам, как важно научиться различать три залога греческих глаголов, словно что-либо на свете было важно, кроме мадемуазель Изабеллы Констан, ее славы и красоты. Созерцая обворожительный образ, запечатленный в глубине моего сердца, я не слыхал ни слова из объяснений г-на Босье относительно среднего залога, который неупотребителен при возвратном глаголе, как очень многие ошибочно предполагают. Из-за невнимательности я не мог ответить на вопрос учителя, означает ли глагол παρεσχησθαι — представлять себе или представлять кого-то, хотя разница значений была для меня очевидна. Вместо того чтобы ответить наугад, что давало мне один шанс из двух на правильный ответ, я молчал как дурак, и меня обозвали тупицей, чем я был жестоко оскорблен, так как любовь делает людей гордыми.
На большой перемене я рассказал о вечере, решившем мою судьбу, малышу Мурону, уверенный, что он, с его тонкой душой, достоин выслушать мои признания. Но Мурон, к великому моему разочарованию, слушал меня с насмешливой улыбкой, без всякого восхищения и сочувствия, а когда я описывал красоту Изабеллы, бесцеремонно ответил дурацким каламбуром, типичным для скороспелого полиглота:
— Изабелла bella donna[344], короче говоря, Изабелла-донна.
Остроты Мурона не всегда бывали удачны.
Вечером, когда мы с Фонтанэ, с ранцами под мышкой, как обычно возвращались вместе домой по улицам Шерш-Миди и Святых отцов, я не мог удержаться и заговорил с ним на единственную тему, которая меня занимала. Зная насмешливый нрав приятеля, я опасался, что он будет издеваться над моей восторженностью. Но Фонтанэ, напротив, слушал меня с серьезным видом и своим молчанием как бы поощрял меня излить ему всю душу. Найдя так неожиданно родственную натуру, способную меня понять, я с жаром описал своему дорогому однокашнику, в какой трепет привела меня Маргарита Шотландская, вся белая в бледных лучах луны.
Фонтанэ мрачно взглянул на меня и сказал:
— Берегись, Нозьер, берегись: женщины коварны.
И прибавил с неожиданной горячностью:
— Если ты любил женщину, гулял с нею по мшистым лесным полянам, вплетал в ее кудри цветы шиповника, слушал ее клятвы под сенью липы и вдруг узнал, что эта женщина неверна, — поверь мне, это ужасно! Жизнь теряет всякий смысл, не стоит дальше жить, ты всего лишь тень и труп.
Слова эти, конечно, не вполне соответствовали моим чувствам, но они дышали любовью, и мы, чередуясь, вторили друг другу, как сицилийские пастухи[345]. Это доставляло мне большое удовольствие, смешанное с некоторым удивлением.
Никогда до этого дня я не слышал от Фонтанэ о коварстве женщин, и никогда еще он не говорил с таким жаром. Обычно он проявлял в беседе ум деловой и практический, и я восхищался им больше всего как будущим государственным мужем. Но на этот раз Фонтанэ не думал об общественных делах. Весь поглощенный роковой страстью, он выкрикивал свирепые угрозы.
— Ах! как хотел бы я вкусить сладость мести! — восклицал он.
— Я хотел бы увидеть ее еще хоть на миг, — говорил я, вздыхая, — следить за ней украдкой, когда она пройдет мимо.
Фонтанэ шептал имя Мадлены и, казалось, испытывал невыразимые муки.
— Кто такая Мадлена, — спросил я растроганно, — где ты с ней встретился?
Фонтанэ ответил с важностью:
— Мадлена — героиня романа, где описана подлинная история. Я прочел эту книжку в воскресенье в Люксембургском саду, на скамейке перед статуей Велледы[346]. Роман называется «Под липами». Его необходимо прочесть, чтобы понять всю глубину страстей. Я тебе принесу.
Дни шли за днями, а я не мог забыть Изабеллы; мне хотелось узнать, в каком дворце она обитает, в каком саду гуляет среди цветов. Но я не знал никого, кто ответил бы мне на это. У меня не было связей с театральным миром. Не имея ее адреса, я мысленно выбрал ей жилище по своему вкусу — замок XV века, украшенный и обставленный с восточной роскошью.
В один из четвергов я встретил на улице Турнон нашего соседа Менажа[347], возвращавшегося из Люксембургского музея, где он копировал ради заработка «Призыв осужденных»[348], большую сентиментальную картину, по его словам, омерзительную. Он сетовал на упадок искусства, громил обывателей, заклятых врагов таланта, долго поносил худосочную живопись Ари Шеффера[349] и, кипя от ненависти и отвращения к нашему гнусному времени, изрыгал проклятия на мещанскую поэзию, прозу и драматургию. При помощи хитрости и терпения мне удалось навести разговор на театр, и я спросил, как бы между прочим, не знает ли он мадемуазель Изабеллу Констан.
— Аа! Малютка Констан? — воскликнул он, сразу расплываясь в улыбке. — Это дочка Констана, парикмахера с улицы Вавен; смотри, вон видна голубая стена его лавочки и над дверью золотой шар, с которого свисает конский хвост. На антресолях, в клетке, подвешенной к окну, распевают канарейки малютки Констан, такие же хорошенькие, такие милые щебетуньи, как она сама… А вот кого стоит посмотреть — это мамашу Констан, ее шляпку с маками, букли, привязанные к ушам красными тесемками, банты, желтую шаль и кошелку! Она не отпускает дочку ни на шаг, провожает ее в театр, заставляет глотать сырые яйца, чтобы смягчить голос, усаживается в артистической уборной, принимает газетчиков и воздыхателей, болтает с капельдинершами о прелестях Изабеллы, о прописанных ей микстурах и притираньях, а потом увозит девочку домой на последней омнибусе… Если ты хочешь повидать малютку Констан, это нетрудно. Каждый понедельник, аккуратно, папаша Констан моет ей голову хинным мылом, а к четырем часам, если погода хорошая, ведет ее в Люксембургский сад, усаживает на складной стул и, поместившись рядом, покуривает трубку, пока волосы инфанты сохнут на солнышке…
На большой перемене мы с Муроном и Фонтанэ, возрождая школу перипатетиков[350], прогуливались по двору взад и вперед, рассуждая о всевозможных предметах, познаваемых и непознаваемых. И я нисколько не удивлю философов, если скажу, что чем сложнее была проблема, тем легче мы ее разрешали.
Мы не ведали никаких трудностей в метафизических понятиях и без малейших усилий выносили суждения относительно времени и пространства, духа и материи, конечного и бесконечного. Пожалуй, я несколько больше других затруднялся в разрешении сложных вопросов, которые ставят перед нами подобные темы, и потому Фонтанэ склонен был сомневаться в моих умственных способностях.
Мы часто рассуждали о выборе профессии, и чем дольше мы учились, тем серьезнее этот вопрос привлекал наше внимание. Чувствуя, что он унаследовал болезнь, которая так рано свела в могилу его отца, Мурон, чтобы обмануть себя, строил одни планы за другими. Врожденная склонность к лингвистике влекла его к кропотливым, усидчивым занятиям в высшей школе; однако, боясь, что кабинетная профессия повредит его здоровью, он готовился стать моряком. Его интересовала также энтомология, и он просто поражал нас глубокими познаниями в области жизни и нравов муравьев.