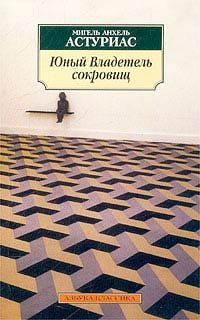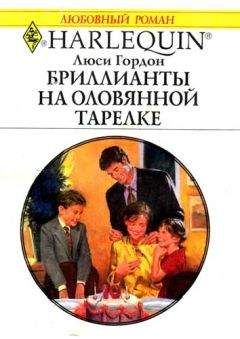Ватага разразилась громким хохотом, а один из ребят закричал:
— Эй ты, Петушок, думаешь, листовки раздадут покойникам?.. Ха-ха-ха!.. У каждого покойника в руках листовка, и каждый читает: «Всеобщая забастовка!», «Справедливая забастовка!..» Что там еще было?..
— «Свободы и хлеба!» Боби даже не моргнул.
— На кладбище?! — сказал он. — Да ведь это самое настоящее приключение, — это идея! — И уже когда все тронулись в путь, он спросил: — Это близко?.. Недалеко?.. Кто знает?..
— Я знаю, как пройти, минуя поселок, но только там придется перелезать через изгороди…
— Вперед, boys,[138] — приказал Гринго.
Одни перепрыгивали через ограды, другие пролезали под колючей проволокой — на четвереньках, на локтях, на животе, — все спешили поскорее штурмовать кладбище, близ которого они как-то совсем незаметно очутились. Деревья папайя, отягощенные массивными спелыми плодами, казались какими-то богинями ночи с множеством грудей. Ветер отражался металлическими отзвуками в ветвях пальм. Ничто здесь не говорило о кладбище, если бы не кресты, которые свет фонариков время от времени вырывал из мрака, — и кресты и могилы укрывала не только темнота, но и буйно разросшаяся растительность.
От света вторгшихся на кладбище фонариков зашевелились гады и насекомые, просыпались совы — птицы из птичника смерти. Лучи электрических фонариков просверливали в разных направлениях мрак и освещали могилы, заросшие травой. Неожиданно всю ватагу будто парализовало: из одной могилы, близ которой они проходили, послышался какой-то шум, какой-то голос.
Боби благодаря своему высокому росту смог, вытянув шею, увидеть, что происходило на дне могилы, которую обстреливали стрелы лучей. Тут, тут, именно тут прячут листовки, — подумали все. Боби удалось разглядеть человеческую фигуру — кто-то как будто хоронил кости с остатками похожей на банановую шкурку кожи, череп с остатками волос, остатки зубов, вылезавших из безгубого рта.
Побледнев как мертвец, Гринго отшатнулся. Он не мог говорить — его бросало то в жар, то в холод. И он, конечно, немедля бросился бы бежать со страху, если бы не узнал, что тот, кто в руках держал человеческие останки, — непонятно лишь было, хоронил ли он либо выкопал их, — был Хуамбо.
Ослепленный лучами электрических фонариков, мулат испуганно прижался к стенке могильной ямы, но успокоился, как только среди лиц, в ливне устремленных на него горящих глаз, различил лицо внука своего хозяина.
Петушок, стоявший рядом с Боби, спросил мулата, что он делает, почему оскверняет могилу.
— Я говорю с погребенными! Отец говорит со мной!
— Дикарь! — в ужасе закричал Боби.
— Отец не оставлял меня в горах, нет! Я спрашивал его здесь, и он мне отвечал: нет! Отец дарил меня дедушке Боби, это да, но не оставлял меня в горах, чтобы меня сожрал ягуар, — это нет… — Кто мне сказал?.. — Он прислушался к голосам и продолжал говорить: — Дедушка Боби мне это сказал однажды, дважды, трижды, сто раз, тысячу раз. …Отец нет, отец меня не оставил в горах, чтобы сожрал ягуар! И я разрыл его, и говорил с ним, и просил прощения у него — закрыл ему глаза, открытые под землей глаза, как у всех бедняков после смерти, потому что они ждут… ждут… я разрыл его и просил прощения — за себя, за ягуара, который меня не сожрал, за Анастасию, которая его покинула… (Мулат потряс костями.) Прости, отец, прости, что я проклинал тебя, что плевал на землю всякий раз, как слышал твое имя! Я — твоя кровь и буду твоими костьми!
И он завыл: «Ау-у-у-у-у-у… ау-у-у-у… у-у-у-у-у…» Не переставая выть, он опустил на землю человеческие останки — очень осторожно, чтобы кости не ударились друг о друга или о землю, — сдвинул их в заранее подготовленную ямку. Однако дно ямы было, по-видимому, утрамбовано, и кости все-таки ударились, упав в слепое пространство смерти, послышался глухой стук. Зарывал он кости в молчании, и никто не слышал, что он повторял: «Чос, чос, мойон, кон!.. Чос, час, мойон, кон!..»
Никто не мог разобрать слов. Кто-то даже подумал, что он молится. Кто-то предложил забросать его камнями. Но воспротивился Боби, не только воспротивился, но и спрыгнул к мулату, который продолжал что-то жалобно бормотать. В липкой влажной земле, разрытой Хуамбо, горячей земле, от которой поднимались зловонные испарения, среди вырванных корней и старых истлевших досок Боби увидел еще какие-то останки.
— Не вытаскивайте меня отсюда! — протестовал мулат. — Заройте меня! Заройте меня! Боби, нет! Не вытаскивай меня, Боби!..
Объятая страхом, шайка кинулась врассыпную, но вскоре мальчишки снова вернулись к могиле и увидели, что Боби силой вытаскивает из могилы этого сумасшедшего, который заявил, что он покойник и что он просит его тоже захоронить.
Петушок, преданный Боби, колебался, не вернуться ли, но все же не смог — сильнее оказался страх.
И он бросился бежать к дому, к «Семирамиде». Там он залез в кровать и укрылся с головой, дрожа с ног до головы, не давала ему покоя мысль о том, что Гринго спит в этой же самой комнате, вон в той кровати, которая стоит пустая, и что он может появиться с минуты на минуту, что он придет сюда вместе с… с… с… — не осмеливался он сказать, — с… с… этим сумасшедшим, говорившим с покойником…
Когда Боби вернулся, Петушок уже спал; весь в испарине, голый, он разметался на постели, простыня соскользнула на пол и лежала, как белый пудель, — очень похожа была простыня на верного пса, дремавшего и одновременно сторожившего своего хозяина: одно ухо торчит, а нос уткнулся в лапу.
Боби разбудил Петушка и сказал:
— Конец нашей шайке! Эти трусы, мерзкие трусы, меня бросили! Завтра всем им скажешь, что нашей шайки больше нет!
Петушок не отвечал. Едва приоткрыв глаза, он понял, что Боби прав; понял это, повернулся на другой бок и уснул.
Псалмопение лягушек — аэ… аэ… ао… ао… аэ… — не столько было паролем и отзывом земноводных, как подумали Табио Сан и Флориндо Кей, когда слезли с грузовичка, сколько отсчетом времени течения воды в реке, похожего на течение жизни; как тиканье часов, разносились ритмичные звуки: аэ… аэ… ао… ао… аэ…
— А потом, — заметил Кей, — у нас уже не было нужды в Хуамбо, уже не нужно было, чтобы он поступил работать в контору. Мы получили очень ценные сведения от одного высокопоставленного чиновника, который имеет доступ в управление, в интендантство, повсюду.
— Он из наших сограждан? — спросил Сан.
— Да, он из столицы, — ответил Флориндо. — Он один из тех, кто был оторван от своего круга, от своего клуба, у кого осталось лишь имя, умение говорить по-английски, кое-какие познания в бухгалтерии, хорошие манеры да умение писать и поддерживать усыпляющую беседу. Вначале я испытывал к нему недоверие. Он сказал мне, что мы якобы встречались в столице, в одном притоне, который содержат француженки. Скажем прямо, не слишком подходящее место. Он объяснил мне, что ходил туда не ради развлечений, а чтобы не забыть французский язык. Как циник цинику, я ответил ему, что я тоже бывал там ради практики во французском. Поговорили мы с ним, поговорили, и как-то он начал жаловаться на Компанию. Я не придал этому значения. Такие жалобы частенько можно слышать от служащих, наших соотечественников, и даже от янки, начиная с самых высокопоставленных и кончая самыми мелкими чиновниками. Это модно: критиковать Компанию в доверительном тоне, среди друзей: «Только вам, но вы, пожалуйста, никому не передавайте…».
— Бандиты!
— Однако этот человек не ограничился критикой. Однажды он вдруг заговорил со мной о забастовке. Он высказал свое мнение, что забастовка — дело правильное, однако нельзя останавливаться на этом, надо вынудить Компанию пойти на большее. Я подумал, что он — провокатор, и прикинулся, что я, дескать, не понимаю ничего и эта тема меня не интересует. Он частенько навещал меня, потому что коллекционировал… как ты думаешь, что…
— Лекарства?..
— Это из-за француженок!.. Ха-ха!.. — рассмеялся Кей. — Ты близок к истине. Он коллекционировал флаконы из-под лекарств.
— Полные или пустые?
— Не знаю, но он искал их повсюду, как маньяк. Ему нравились всякие флаконы причудливой формы, склянки, пробирки из-под пилюль.
— А что этот тип думает по поводу забастовки? — спросил Сан.
— Он заодно с нами…
— Что за чертовщина!
— Я, разумеется, ему ничего не говорил…
— Тогда это скорее шпион, а не провокатор.
— Я так и подумал. До последней минуты я считал, что он шпион… Однако подожди, надо сориентироваться, а то за разговорами мы, чего доброго, собьемся с пути…
Он поднял голову к знойному, испещренному звездами небу. От земли поднимались горячие испарения. Духота становилась еще более невыносимой из-за сильного аромата цветов и тягучего, как бы маслянистого запаха спелых бананов.