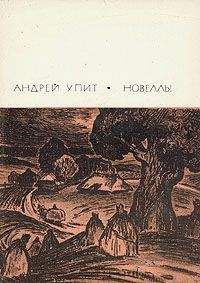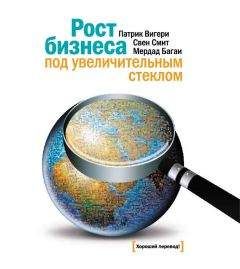Вдруг он очнулся: чего он еще тут стоит — изгнанный блудный сын? Он задыхается в этом воздухе, насыщенном ненавистью, недоверием, горем. Застегнув пальто, он пошел прочь. Но у ворот остановился и обернулся. Хоть бы проститься с кем-нибудь! Хоть бы собака выбежала вслед и залаяла!.. Но было тихо, все спали глубоким сном. Он вышел на дорогу и зашагал все быстрее и быстрее. Только на пригорке остановился и оглянулся в последний раз. Отцовский дом лежал в низине черной бесформенной грудой. И казалось, что ночной ветерок доносит оттуда запах гнили.
Над вырубкой нависло светло-серое облако дыма. Тяжелое и неподвижное, оно кажется застывшим, сплющенным. С Кукушкиной горы видно, как время от времени сквозь серую пелену с треском и шипением прорывается вверх клокочущий черно-красный столб. Это вспыхивает от корня до верхушки одинокая, забытая ель, которую настиг огонь.
А когда спустишься с Кукушкиной горы, сразу видно, что серое облако дыма только сверху казалось таким застывшим и неподвижным. Внизу шныряют, скачут, клубятся, расползаются тысячи красных змей. Слышно, как там все шипит, трещит и бурлит, словно в огромном котле. Время от времени раздаются тяжелые размеренные удары — это топор новосела валит обгорелую ель. Иногда доносятся короткий звенящий звук, будто задели пальцем струну цитры, — то плуг пахаря подымает новь, рвет цепкие, толщиной в два пальца, корни елей. Под серым пологом снуют черные от копоти согбенные фигурки людей. Это их сила заставила плясать красных змей и превратила эту раскинувшуюся на три версты в длину и почти на столько же в ширину, покрытую кустарником и пнями вырубку в красивое ровное поле.
По ту сторону, прямо напротив Кукушкиной горы, вдоль опушки тянется полоса еще в прошлом году выжженной и засеянной вырубки. Иссиня-зеленая, едва начавшая колоситься рожь почти совсем скрыла разлапистые пни. Вокруг корневищ крупная переспевшая земляника, будто красным гарусом вышитая. Но маленькие согбенные фигурки в тревоге бродят вдоль ржи: не перебросило бы ветром огонь с новой вырубки.
На опушке, поодаль друг от друга, — какие-то странные избы. Не сразу догадаешься, из чего они построены. В дело пошло все, что нашлось на вырубке: десятки лет пролежавшие в болоте коряги, оставленный под снегом лесорубами хворост, ветвистые верхушки елок, ольховые прутья, глина и мергель. Сами носили, сами строили.
Небольшие оконца о четырех стеклах. Две избушки с трубами, остальные обходятся так. Возле каждой — небольшой загон для скотины. Перед одной избушкой красуется даже большой куст георгин, с пышными темно-красными цветами…
Оттуда, огибая ржаное поле, идет девушка в сером поношенном платье, в лаптях, в цветистом красном платочке, на плече у нее закопченные грабли. Девушка идет охранять свое поле от огня соседней вырубки. Все утро пламя шныряло возле их ржи, словно подкарауливая. Ветер как раз с той стороны, хорошо еще, что не сильный.
Девушка становится на пенек и сдвигает платок на затылок. Темные пряди волос выбиваются из-под платка и падают на загоревшее от солнца и жара лицо, на искрящиеся темные глаза. Она сердито откидывает волосы загрубелой рукой и бросает взгляд куда-то за ржаное поле. Вовремя поспела — дым уже на краю поля.
Она соскакивает с пня и бежит через узкую полоску ржи. С шипением катятся ей навстречу клубы огня. Вот они уже в десяти шагах от поля. Девушка спешит им навстречу, бьет хребтом грабель, вырывает на пути огня мох и сухую траву, чтобы лишить его пищи.
Из большого огненного вала вырываются все новые и новые языки, тянутся вперед и жадно лижут мох, сухую траву и мелкие хворостинки. В девушке все сильнее закипают гнев и злость. Глаза почти совсем зажмурены и слезятся от едкого дыма. Лицо побагровело от жары и напряжения. Но сильные руки стиснули грабли и с невероятной быстротой поднимают их. Однако понемногу ей приходится отступать перед сильным, неумолимым врагом. Темно-зеленые сочные стебли, как в предчувствии надвигающейся беды, клонятся и стараются спрятать нежную бахрому еще редких цветов.
— Мартынь! — громко кричит девушка и, остановившись, прислушивается. Откуда-то издалека, из мглы, доносятся сильные удары топора. — Мартынь! — кричит она еще громче и, повернувшись, начинает кашлять. Тревожно оглядывается. В прищуренных глазах ее мелькает отчаяние. Еще несколько шагов, и красные языки начнут лизать землю у самых корней ржи, зеленые стебли станут бессильно валиться друг на друга.
В пылу борьбы девушка и не замечает, как цветистый красный платочек развязался, соскользнул сперва на плечо, а потом на землю. Мимо него с шипением покатился красный клубок… Не замечает девушка, что по дымящейся росчисти к ней приближается что-то странное — не то дерево, не то куст. Не замечает даже, как из мглы появляется парень — такой же загорелый, как и она, в запачканной сажей рубахе, в сапогах и дырявой соломенной шляпе, с большой пышной ольховой веткой на плече. И только когда он дотрагивается до нее, девушка чуть поворачивает голову, но руки ее по-прежнему подымают и опускают грабли.
— Это ты, Мартынь? — говорит она, но в голосе ее не слышно удивления.
— Это ты, Катрина! — отвечает он шутливо, и из-под запекшихся губ сверкают белые зубы. Парень видит, что сейчас не до шуток. И вот он уже стоит рядом с Катриной и усердно работает веткой.
Насколько быстрей идет дело, когда грабли и ветка работают вместе! Еще немного, и ржаному полю уже не угрожает опасность. Перед полем теперь с полпурвиеты дочерна выжженного дымящегося пространства. У грабель обломались все зубья, на ветке не осталось ни одного листка, но Мартынь и Катрина вытирают со лба пот и почти улыбаются, глядя, как огненный вихрь медленно движется куда-то в сторону.
Мартынь бросает оголенную палку.
— Садись, — зовет он Катрину, — отдохни.
Девушка оглядывается, подходит к обгорелому пню с еще белой верхушкой и садится. Грабли она не выпускает из рук.
— А ты?
— Я? — Мартынь машет рукой, потом засовывает ее в карман и становится против Катрины. — Изрядно досталось…
Катрина становится серьезной.
— А то нет? Ты только жжешь хворост, а до других тебе и дела нет. Еще немножко, и вся рожь бы пропала.
— Я же вчера сказал — следите… Хворост нарочно подальше убрал. Почему на подмогу не позвала.
— Разве я не звала?
— Надо было сразу кликнуть. Смотри, как устала, весь лоб мокрый.
— Лоб… — смеется она, проводя тыльной стороной руки по лицу. — Вся спина мокрая.
— У меня тоже. — Парень поводит плечами, и его белые зубы снова сверкают. Потом, вдруг заметив что-то, он отходит в сторону и нагибается.
— Катрина, это не твой платочек?
Катрина удивленно хватается за голову.
— Мой… Наверно, давеча потеряла. Не обгорел?
— Гляди. Половины как не бывало. Пропал твой платочек.
— Жалко! — вздыхает Катрина. — Я к нему так привыкла.
Она протягивает руку, берет обгоревшую тряпку и осматривает.
— Чего уж тут… Пропал… Отец опять заругается, — и бросает платок на землю.
— Я тебе новый куплю, — говорит Мартынь серьезно.
— Ты? — улыбается она.
— Я, — еще серьезнее повторяет он. — Завтра мне все равно в лавку идти, лопату покупать. Принесу тебе новый платочек.
Девушка качает головой.
— Лучше не надо. Откуда у тебя деньги! Я уж сама… Садись. — Она отодвигается на самый край пенька. — Ну, как твои дела?
Парень сидит рядом и смотрит на ее черные, обгоревшие лапти.
— Ничего. Если дождь не пойдет, можно будет на той неделе вскапывать.
— Лопатой? А отец лошади не даст?
— Отец… — Мартынь только рукой махнул. — Говорят, мачеха похвалялась, что напиться из своего колодца — и то не даст.
— Беда с ней. Ну и ты ее немало позлил.
— А она меня! С ума сойдешь, глядя, как они живут. И это лесник! Тащат у рабочих, тащат у барина. Без бутылки водки и сажени дров не получишь. А раз я так не могу… значит, сразу враг им.
— Еще удивительно, как ты у барина эту вырубку получил и отец не пожаловался.
— Он не знал, — усмехнулся Мартынь. — Я тайком ухитрился получить. А то бы не дал. Чтобы здесь, рядом с вами, — да ни за что.
— Нас… Меня они невзлюбили, — говорит Катрина потупясь. — А что я им сделала…
— На что тебе их любовь? — сердито говорит Мартынь. — Обойдемся и без них! — Слегка робея, он протягивает руку, обнимает Катрину за талию и стремительно привлекает к себе. Катрина не противится. Потупив глаза, она улыбается и носком лаптя царапает обуглившуюся землю. Потом, будто очнувшись, вырывается и вскакивает.
— Пора домой, — и чуть виновато добавляет: — Отец в лощине косит. Мне надо поросенка покормить… Молоко на творог согреть надо.
Он понимает. Большие, глубокие глаза доверчиво смотрят на Катрину, и взгляд их льнет к загорелому лицу, словно бабочка к полному росы цветку. Они прощаются взглядами.