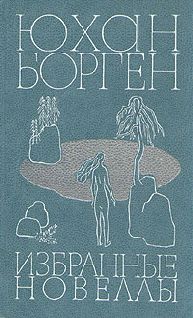Но она не последовала его совету, она отважно положила кашицу в рот и стала медленно жевать.
– Дорогая Кристина, – с удивлением сказала она, – право же, это чудесно, совсем никакого вкуса.
Те, кто стоял близко, рассмеялись. Замечание быстро облетело зал.
– Пусть будет так, – сказала Кристина, взяв тарелки у них из рук. – Это самое большее, чего можно требовать от пищи в наше время. – Она засмеялась. И все вокруг радостно засмеялись в ответ: они были точно цыплята, жмущиеся к наседке. Им предстояло попробовать другие блюда, те, что приготовлены из сельди.
За всеми столами чавкали и причмокивали. Возгласы восторга вознаграждали усилия организаторов. – «Совсем как мясной фарш!» – произнес чей-то голос. – «Подумать только, и это селедка», – отозвался другой. – «Селедка очень хорошая еда!» – заметил третий.
– Селедка – еда превосходная, – тотчас вмешалась Кристина. – И питательная, и полезная. Но представьте себе, милые дамы, что вы едите селедку каждый день. Я хочу сказать, селедку в виде селедки...
Единодушный вопль отвращения был ответом на ее слова. «Она снова объединила их в своем торжестве, нет – в их общем торжестве», – подумал Вилфред. В том-то и смысл того, что она делает: им кажется, будто они сами причастны к происходящему. Эта мысль засела в нем. Мастерица на все руки эта Кристина, его тетка Кристина, которую он когда-то любил. Она и в Судный день будет с такой победоносной уверенностью распоряжаться своей лютней или своими кастрюльками, что отвратит гнев господень. И тут на мгновение его кольнуло воспоминание, как однажды весенним вечером он застал ее, одинокую, в слезах, на ступенях веранды, а доносившиеся к ним из комнат отзвуки детского бала надували парусами легкие занавески.
– Неужели ты сама изобрела все эти блюда из селедки? – восторженно спросил он со своей неизменной склонностью переигрывать. Он знал, что это будет истолковано превратно и они решат, будто он их дурачит. Но теперь она чувствовала себя уверенной и спокойно взглянула в его сияющее лицо.
– Дорогой мой мальчик, сама я вообще ничего не изобрела, – сказала она. – И по правде сказать, я терпеть не могу, когда вещи выдают себя не за то, что они есть на самом деле. Как, впрочем, и люди, – добавила она.
Они постояли вдвоем в стороне от всех. Фру Саген с напряженным любопытством разглядывала столы, где стояла еда, которой, судя по всему, вынуждены питаться другие люди: для нее это было равносильно путешествию к дикарям в неведомые страны.
– Вот как, – неуверенно отозвался он. – И люди также?
– Да, – подтвердила Кристина без улыбки. – Суррогаты – самая скверная штука на свете, но они, безусловно, необходимы, даже если люди, подобные вам...
– А ты сама, Кристина? – поддразнил он ее. – Сама ты часто ешь селедку?
– Ем – но только в виде селедки, – ответила она в том же тоне. – Я люблю, чтобы селедка была селедкой. – Нынче вечером во всем, что она говорила, был какой-то скрытый смысл. А может, она так говорила всегда. Все это было давным-давно. Он вспомнил ее маленькую комнату на Арбиенсгате, навеки пропитавшуюся ароматом какао. Вспомнил, что она завела себе собачонку... Неужто она вот так и живет среди своих почитательниц, всегда окружена и всегда одна-одинешенька?
– Надеюсь, ты проведешь этот вечер со мной и с мамой, – предложил он неожиданно для себя самого: у него были совсем другие планы.
Она посмотрела на него, тоже с неожиданной нежностью.
– Думаешь, это будет удобно, Вилфред?
Он за руку вытянул мать из женской толпы.
– Кристина пойдет с нами! – восторженно сказал он. Фру Саген тотчас выказала радость, какую от нее ждали. – Мы угостим ее селедкой! – негромко и весело воскликнул Вилфред. Он хотел нынче вечером доставлять радость им обеим. – Только имей в виду – селедкой, которая будет селедкой... – Он бросил заговорщический взгляд на Кристину, которая засмеялась в ответ.
Мать покосилась на них с подозрением. Ее всегда пугали приливы его восторженности. «Он никогда не умеет вовремя остановиться», – говорил дядя Мартин.
– Насчет селедки ничего обещать не могу, – спокойно ответила она. – Но что верно, то верно, Кристина, у тебя золотые руки. За что ты ни возьмешься, все у тебя спорится. Неужели ты проделываешь это каждый вечер?
– Три раза в неделю, дорогая, – ответила Кристина, умеряя ее восторги, но обрадованная похвалой. – А по утрам мы готовим настоящую еду, которую распределяем среди самых нуждающихся.
Вилфреда кольнуло в сердце. Он подумал о своих приятелях и о многих, многих других завсегдатаях ресторанов, расположенных в пяти минутах ходьбы отсюда. Наступал тот самый час, когда обеденные залы заполнялись до отказа и усталые официанты, с потускневшей улыбкой подносящие шампанское бледнолицым бездельникам, которые проводят время на бирже и у неумолкающих телефонов, всерьез брались за дело. Его место за столом, за любым столом, где поднятая рука означает: еще шампанского, сейчас пустует. Он вызвал бы Селину – девушку с дразнящими волосами и дразнящим телом. Но сейчас ему не хочется предавать своих. Он вернулся в свое благонравное детство, в ту его часть, где все было благонравно.
После ухода Кристины – она была верна себе: не хотела, чтобы ее провожали, – мать и сын сидели в эркере, глядя на море. Все лебеди-лодки уже стояли на причале, покрытые брезентом: детям пора спать. Она налила ему стакан неприкосновенного виски дяди Мартина, того, которым он снабжал ее для своих личных надобностей. Звук капель, льющихся в стакан, один нарушал тишину в комнате.
– Сама не знаю, – сказала она с легкой улыбкой в голосе и с легкой печалью, уместной после интересно и приятно проведенного дня, в котором участвовало прошлое.
– Чего ты не знаешь, мама?
– Да нет, я просто подумала, забыла о чем... Как по-твоему, ей это доставляет удовольствие? – И фру Сусанна вдруг взглянула прямо в глаза сыну, чтобы наконец что-то узнать – наконец и ей этого захотелось.
– Ты имеешь в виду Кристину? Думаю, что доставляет... Я понимаю, что ты хочешь сказать, мама, – перебил он сам себя. – Ты не очень-то веришь в ее деятельность, ты считаешь, что люди придумывают себе занятия, чтобы... чтобы...
– Вот именно, – сказала она, – чтобы... Ты тоже не знаешь для чего. Может, чтобы чем-то заняться – и забыться?
– Или для того, чтобы жить, мама. Для некоторых это очень серьезный вопрос.
Она проглотила пилюлю, как всегда проглатывала замечания о том, что люди нуждаются в средствах к существованию.
– Само собой, – неопределенно отозвалась она. – Все это, конечно, превосходно. А ты сам?..
Вопрос прозвучал несколько неожиданно. Так бывало с ней и прежде. Оберегаешь и поддразниваешь ее в должной пропорции, памятуя о ее отрешенности от превратностей здешнего мира, и вдруг, на тебе, она сама проявляет неожиданную прямолинейность.
– Я сам? – переспросил он.
– Да, ты сам – в житейском смысле, – сказала она, снова становясь уклончивой. Она не хотела добиваться ответа, не хотела знать всерьез.
– Хочешь повторить вслед за своим братом Мартином, что пора, мол, мальчику заняться делом?
– Дорогой мой, я имела в виду лишь...
– Да ведь это вполне естественное требование. И, учитывая, что мой опекун считает изучение истории искусств пустейшим занятием, я договорился кое с кем из моих друзей, что они приобщат меня к так называемой практической жизни. Период моих занятий искусством закончился – это было увлечение переходного возраста. – Он коротко усмехнулся.
Сегодня он хотел доставлять ей радость. Но не хотел себя связывать. Он просто хотел, чтобы, когда он уйдет, у нее на душе было хорошо и спокойно. Он вопросительным жестом приподнял драгоценную бутылку дяди Мартина, она едва заметно кивнула. Виски, прохладное и жгучее одновременно, омочило ему горло. Да, он порадует ее чем только сможет.
– Но это вовсе не означает, что надо предать забвению все, чему меня выучили вы с дядей Рене.
– Я не считаю, что история искусств – пустое занятие, – спокойно сказала она и стала глядеть на фьорд. – И, по-моему, печально и глупо, что ты перестал заниматься музыкой. Мне совсем не по душе эта нынешняя деятельность, если ты имеешь в виду ее, и меня совсем не радует, что ты водишься с людьми, которые зарабатывают так много денег.
Она произнесла это с неожиданной твердостью и против обыкновения вполне связно. Стало быть, она обо всем этом думала, он по-прежнему был предметом ее забот.
– Дорогая мама, – сказал он, усевшись на низкий подоконник лицом к морю. – Я думал, ты обрадуешься, если я чем-нибудь займусь, а в наше время единственное стоящее дело – это загребать деньги.
– Только не в моих глазах, – быстро возразила она. – Да, да, я знаю, вы говорите, что мне рассуждать легко: я обеспечена – но разве это такой большой грех? Да, к счастью, я обеспечена и рада, что могу не слышать об этих отвратительных людях, которые высунув язык мечутся между биржей и еще бог весть чем, чтобы в свободное время еще пуще щеголять своими дурными манерами... – Она поднялась в необычной для нее запальчивости и стояла, глядя на темный залив. Послышался шум поезда, который прошел под окнами, разбрасывая искры в темноте. Когда шум затих, она продолжала: – Ты думаешь, я не вижу их здесь в заливе, когда они катаются на своих роскошных яхтах? Они непристойны, они сами и их девицы... Кстати, о девицах, в «Космораме» идет чудесный фильм с Хенни Портен «Женщина, на которой не женятся».