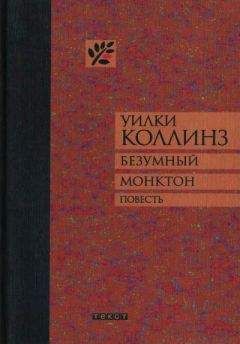Пожалуй, никогда, ни разу мне не было так трудно обуздать себя и не взорваться, как в ту минуту. Все же мне удалось удержаться от весьма непочтительного замечания по поводу монахов, всех, какие есть на свете, едва не сорвавшегося с языка, и предпринять еще одну попытку победить несносную уклончивость старика. На мое счастье, я и сам был любителем нюхательного табака, и у меня в кармане была полная табакерка отличного английского зелья, каковую я и протянул ему сейчас в порядке взятки. То было мое последнее средство.
— Я только что заметил, что в вашей табакерке нету табака. Не хотите ли отведать понюшку моего?
Согласие свое капуцин выразил с прямо-таки юношеской живостью. Он захватил в щепоть самую гигантскую понюшку, какую только можно было удержать в ладони, медленно втянул ее, не уронив ни крошки, и, полуприкрыв глаза и растроганно тряся головой, отеческим жестом потрепал меня по плечу:
— О, сын мой, — что за восхитительный табак! О, сын мой и любезный путешественник, подай твоему любящему духовному отцу еще одну совсем-совсем ничтожную понюшку!
— Позвольте, я набью вам табакерку. У меня еще много.
Помятая табакерка оказалась у меня в руках, прежде чем я успел докончить фразу. Отеческое похлопывание по спине стало еще более одобрительным, а хрипловато-слабый голосок бойко и многословно меня нахваливал. Похоже, я нащупал слабое место старого капуцина и, возвращая ему табакерку, немедленно воспользовался замеченным преимуществом.
— Простите, что я снова докучаю вам расспросами, — промолвил я, — но у меня на то особые причины, мне очень важно получить от вас объяснение того чудовищного зрелища во флигеле.
— Пройдемте внутрь.
Он потянул меня в ворота, захлопнул их, повел через поросший травой двор, граничивший с невыполотым огородом, и проводил в длинную комнату с низким потолком, грязным кухонным шкафом, несколькими рядами сидений, украшенных грубой резьбой, одной или двумя зловещими, в разводах плесени картинами, которые висели здесь для красоты. То была ризница.
— Тут никого нет, прохладно, хорошо, — сказал старый капуцин. Там было так сыро, что меня стал бить озноб. — Не хотите ли осмотреть церковь? — спросил монах. — Это настоящая жемчужина! Если б только мы могли восстановить ее, но мы не в силах. Ах! Злой рок и нищета, мы так бедны, что не можем привести в порядок нашу церковь!
Тут он покачал головой и стал перебирать большую связку ключей.
— Мне сейчас не до церкви, — остановил его я. — Вы можете сказать мне то, что нужно, или нет?
— Все, от начала до конца. Абсолютно все. Это я открыл дверь. Я всегда открываю, когда звонят, — ответил капуцин.
— Бога ради, скажите, какое отношение имеет дверь к трупу, гниющему в вашей пристройке?
— Слушай, сын мой, и узнаешь. Какое-то время тому назад, несколько месяцев… я стар, увы, мне изменяет память, не помню, сколько месяцев прошло, увы мне несчастному! — Для утешения он прибегнул к еще одной понюшке табаку.
— Не беспокойтесь, мне не нужна точная дата, — прервал я его.
— Хорошо, — ответил капуцин, — тогда я буду продолжать. Ладно, скажем, это было несколько месяцев тому назад, все мы, живущие в этом монастыре, завтракали в трапезной. Увы, до чего скудны завтраки, сын мой, в нашем монастыре, до чего скудны! Итак, мы вкушали завтрак, как вдруг раздалось: «Пых! Пых!» — два раза кряду. «Стреляют из ружья», — сказал я. «В кого?» — спросил брат Джереми. «Если еще будут стрелять, я пошлю узнать, что происходит», — сказал отец настоятель. Но больше мы выстрелов не слышали и продолжали нашу жалкую трапезу.
— С какой стороны прозвучали выстрелы? — спросил я.
— Со стороны дальней низинки, из-за больших деревьев, что позади монастыря; там есть открытая полянка, отличная была б землица, если б не лужи да болотца. Но то-то и беда, у нас тут очень, очень сыро! Вода застаивается! Очень уж мокро!
— Итак, что было дальше, после того как вы услыхали выстрелы?
— Сейчас узнаете. Мы все еще вкушали завтрак, храня молчание, ибо о чем нам говорить? О чем, кроме молитв, и огорода, и скудности убогих порций, что нам дают на завтрак и обед? Словом, все мы хранили молчание, когда вдруг зазвонил звонок, да так, как никогда дотоле, — раздался прямо-таки адский звон, все мы едва не поперхнулись теми крохами, жалкими, жалкими крохами, какие держали во рту. «Идите, брат мой, — обратился ко мне отец настоятель, — идите, отоприте, ведь отпирать ворота — ваше дело». Скажу вам, я не робкого десятка, можно сказать, лев, а не капуцин. Иду на цыпочках, жду, вслушиваюсь, приоткрываю дверной глазок — не вижу ничего, ну вовсе ничего. Я ведь не робкого десятка, меня не запугать, что я делаю дальше? Отворяю дверь. О! Пресвятая Матерь Божья, что я вижу на пороге? Там лежит человек — мертвец, огромный, больше меня, больше вас, больше любого из наших монастырских братьев, в глухо застегнутом отличном сюртуке, и сквозь манишку сочится и сочится кровь, а черные его глаза смотрят, смотрят не мигая в небо. Что я делаю? Я вскрикиваю раз, вскрикиваю другой и бегу со всех ног к отцу настоятелю!
Все подробности роковой дуэли, вычитанные мной из французской газеты в тот вечер, когда я навещал Монктона в его неаполитанской комнате, тотчас встали у меня перед глазами. С последними словами старого монаха подозрение, охватившее меня, когда я заглянул ненароком во флигель, перешло в окончательную уверенность.
— Все это мне понятно, — сказал я. — Труп, который я только что видел во флигеле, — это тот самый труп, который вы нашли у себя на пороге. Но объясните, почему вы не предали его земле, как полагается?
— Погодите, погодите, не торопитесь, — остановил меня капуцин. — Отец настоятель услышал мой крик и поспешил навстречу. Все мы побежали к воротам, подняли этого большого человека и тщательно осмотрели. Мертв, мертв, как это дерево! — Тут он ударил рукой о шкаф. — Мы вновь осмотрели его и заметили, что к воротнику сюртука приколота записка. Ага, сын мой, вот вы и вздрогнули! Я так и думал, что в конце концов заставлю вас вздрогнуть.
Я и в самом деле вздрогнул. Записка, несомненно, была тем самым листком, вырванным из записной книжки секунданта, о котором упоминалось в неоконченном дневнике и где излагались обстоятельства смерти дравшегося. Если бы мне требовалось несомненное подтверждение личности убитого, то вот оно, это подтверждение, было передо мной.
— Как вы полагаете, что было написано на этом клочке бумаги? — спросил капуцин. — Прочитав, мы содрогнулись. Человек этот был убит на дуэли; злосчастный, безрассудный, он погиб, совершая смертный грех, и те, что лицезрели его убийство, обращались к нам, капуцинам, святым людям, служителям Господним, чадам отца нашего святейшего папы, обращались с просьбой дать ему погребение! О, мы были вне себя, когда это прочли, мы стенали, заламывали руки, рвали на себе волосы, не находили себе места, мы…
— Погодите минутку, — прервал я его, видя, что старик увлекся рассказом и, если не остановить его, зальет меня потоком слов, все меньше относящихся до дела, — погодите минутку. Сохранилась ли записка, которая была приколота к воротнику убитого, и можно ли ее увидеть?
Капуцин уже было собрался ответить, но вдруг осекся и, как я заметил, перевел взгляд на двери, и тут же за моей спиной они легко открылись и закрылись.
Я живо обернулся и увидел, что в ризнице появился еще один монах — высокий, тощий, чернобородый, с приходом которого мой прежний друг — владелец табакерки, внезапно приобрел вид самый елейный и благочестивый. Я заподозрил, что нас почтил своим приходом отец настоятель, и не ошибся, как выяснилось, едва лишь он заговорил со мной.
— Я настоятель этого монастыря, — сказал он ясным и спокойным голосом, не сводя с моего лица холодного, пристального взора. — Я слышал часть вашей беседы и желал бы знать, отчего вы так жаждете видеть записку, что была приколота к воротнику убитого?
Невозмутимость, с которой он признался, что подслушивал, спокойно-повелительный тон голоса, смутили и озадачили меня. В первую минуту я не знал, в каком духе отвечать ему. Заметив мою нерешительность и приписав ее ложной причине, он сделал знак старому капуцину удалиться. Робко погладив свою длинную седую бороду и незаметно подбодрив себя еще одной понюшкой «восхитительного табака», мой досточтимый друг зашаркал к дверям, где отвесил глубокий, почтительный поклон и скрылся из виду.
— Итак, — произнес отец настоятель все так же холодно, — я жду ответа, сэр.
— Он будет дан вам в самой сжатой форме, какая только мыслима, — ответил я ему в таком же тоне. — В доме, пристроенном к вашему монастырю, я с ужасом и отвращением увидел непогребенного покойника. Я полагаю, что это труп английского джентльмена, человека богатого и знатного, павшего на дуэли. Я приехал в эти места с его племянником и единственным родственником ради неотложной цели найти его останки. И желаю видеть записку, приколотую к телу, полагая, что записка поможет опознать его личность, к удовлетворению его родственника, которого упоминал. Достаточно ли откровенен мой ответ? Намерены ли вы дать мне разрешение взглянуть на этот документ?