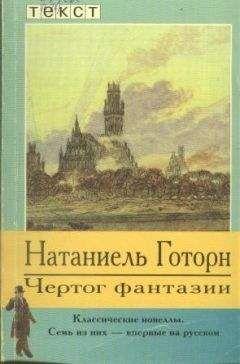По счастью, однако, на соседнем столе приготовлен десерт. Адам, чей аппетит и животное чутье острее, чем у Евы, обнаруживает эту приемлемую снедь.
— Вот, милая Ева, — восклицает он, — вот она, пища!
— Хорошо, — соглашается та с повадкой будущей хозяйки, — раз уж мы нынче были так заняты, сойдет и обед на скорую руку.
И Ева подходит к столу и берет из руки мужа краснощекое яблоко, словно искупая роковое подношение своей предшественницы нашему общему праотцу. Она вкушает его без греха и, будем надеяться, без пагубных последствий для потомства. Не излишествуя, они вволю насыщаются плодами — хоть и не райскими, однако ж взращенными из семян, посеянных в Эдеме. Так утоляют они свой первозданный голод.
— А что будем пить, Ева? — спрашивает Адам.
Ева рассматривает бутылки и графины: видя в них жидкость, она, естественно, думает, что за питьем дело не станет. Но никогда еще кларет, рейнвейн и мадера с их душистыми и тонкими ароматами не внушали такого отвращения.
— Фу, гадость! — восклицает она, понюхав несколько вин. — Нет, видно, те, прежние, были совсем другие: ни еда их, ни питье нам не годятся!
— Пожалуйста, дай мне вон ту бутылку, — просит ее Адам. — Если кто-то мог это пить, могу и я смочить горло.
Попеняв на его своеволие, Ева берет бутылку шампанского, но пугается внезапного хлопка пробки и роняет ее на пол. Пролитый напиток, шипя, выдыхается попусту. А если б они его отхлебнули — изведали бы то краткое помешательство, которым, будь оно вызвано нравственными или физическими причинами, люди пытаются возместить безмятежные и непреходящие отрады, утраченные в разладе с Природою. Наконец Ева находит в леднике стеклянный кувшин с водою, студеной и кристально чистой, будто сейчас из горного ключа. Питье это столь живительно, что они вопрошают один другого, уж не такая ли самая драгоценная влага струится в их жилах.
— А теперь, — молвит Адам, — надо нам заново попытаться разгадать, что это за мир и зачем мы сюда посланы.
— Как зачем? Чтобы любить друг друга! — восклицает Ева. — Разве этого мало?
— Конечно же, нет, — отвечает Адам, целуя ее. — И все-таки не знаю почему, но само собой разумеется, что у нас есть какое-то дело. Может быть, мы как раз и должны взобраться на небеса — ведь они куда прекрасней земли.
— Хорошо бы мы уже сейчас там оказались, — вздыхает Ева, — и нас бы не разделяли никакие дела и обязанности!
Они покидают гостеприимный особняк, и мы видим затем, как они спускаются по главной улице города. Часы на старой ратуше показывают ровно полдень, и в этот свой звездный миг биржа должна бы являть собой живейший символ единственно важного для множества былых обывателей жизненного занятия. Этому занятию положен конец. Улица обрела покой вечной Субботы, и даже мальчишка-газетчик не кидается к одинокой паре прохожих с грошовым приложением к «Таймс» или «Мейл» — полным отчетом о давешней ужасной катастрофе. Из всех застоев, какие знавали торговцы и перекупщики, этот наихудший, ибо, на их-то взгляд, обанкротилось само творенье. Да, что ни говори, а жаль. Жаль тех магнатов, которые только что стяжали вожделенное богатство! Жаль тех прозорливых дельцов, которые столько лет посвятили своей многосложной и хитроумной науке и едва овладели ею, как трубный глас возвестил вселенское банкротство! Неужто они были так беспечны, что не запаслись ни валютой страны, куда навеки отбыли, ни векселями, ни аккредитивами от неимущих землян к небесным казначеям?
Адам и Ева заходят в банк. Не беспокойтесь — вы, чьи сбереженья там хранятся. Теперь они вам больше не нужны. Не зовите полицию! Каменья мостовой и червонцы из сейфов равны в цене для этой бесхитростной четы. Они черпают пригоршнями яркое золото и для забавы подбрасывают монеты, глядя, как звонкая дребедень сыплется сверкающим дождем. Им невдомек, что каждый из этих желтых кружочков вчера еще имел колдовскую власть над людьми: приводил в трепет сердца и отуманивал нравственное чувство. Пусть же на миг замрут открыватели нашего прошлого. Они открыли движущую силу, сущий корень той напасти, что въелась в нутро человека и своей мертвой хваткой изничтожила его исконную природу. Но юным наследникам всех сокровищ земных эта напасть не страшна. Вот они, сокровища: кипы банкнот, чародейных кусочков бумаги, некогда способных единым духом воздвигать волшебные дворцы и творить всяческие гибельные чудеса, хотя сами-то они были всего лишь призраками денег, тенями тени. Как похожа эта сокровищница на разоренную пещеру колдуна: всевластный магический жезл изломан, блеск обаяния погас, и пол усеян разбитыми талисманами и безжизненными личинами, еще недавно — демонскими!
— И везде-то, милая Ева, — замечает Адам, — нам попадаются разные кучи мусора. Я уверен, что их громоздили нарочно — только вот зачем? А может быть, мы тоже нагромоздим. Что, если в этом и есть наше призвание?
— Ой, нет, нет, Адам! — протестует Ева. — Тогда уж лучше тихо сидеть и смотреть в небеса.
Они покидают банк, пожалуй, вовремя; задержались бы еще — и наверняка наткнулись бы на какого-нибудь скрюченного подагрика, старикашку-капиталиста, чья душа не сможет упокоиться нигде, кроме как в сейфе, возле своих сбережений.
Потом они заходят в ювелирный магазин. Им нравятся сверкающие каменья; Адам дважды обвивает чело Евы нитью прекрасных жемчужин и закалывает свой плащ великолепной алмазной брошью. Благодарная Ева радостно любуется собой в ближайшем зеркале, но вскоре, заметив вазу с букетом роз и других свежих цветов, отбрасывает бесценные перлы и украшает волосы более чарующими драгоценностями природы. Они пленяют ее не одной красотой, но и встречным трепетом.
— Конечно же, они живые, — говорит она Адаму.
— Да, наверно, — отзывается Адам, — и похоже, что им в этом мире так же неуютно, как нам.
Ни к чему неотступно следовать по пятам за нашими изыскателями, которым их Творец доверил вынести неосознанный приговор трудам и обычаям исчезнувшей расы. К этому времени они, наделенные быстрым и цепким разумом, начинают постигать назначение многих окружающих вещей. Догадываются они, например, что городские здания воздвигнуты не той созидательной волей, которая сотворила мир, а существами, отчасти подобными им самим, для собственного благоустройства. Но как им взять в толк, отчего помимо великолепных жилищ построены жалкие, убогие лачуги? Откуда у них возьмется представление о рабской зависимости? И скоро ли уразумеют они тот подавляющий и прискорбный, повсюду очевидный факт, что одни былые обитатели Земли купались в роскоши, а другие — огромное большинство — в поте лица своего добывали скудное пропитание? Отнюдь не к лучшему изменятся их сердца, прежде чем они поймут, что первозданный завет Любви полностью отвергнут, раз один брат нуждается в том, что в избытке есть у другого. Когда же ум их сможет это вместить, то у новых землян не станет особых причин превозноситься над прежними, забракованными.
Мало-помалу они выходят за черту города; и вот стоят на травянистой вершине холма, у подножия гранитного обелиска[84], указующего в небо, точно громадный перст, — зримый символ людского семейственного согласия, приснопамятной жертвы, принесенной в знак общего молитвенного благодарения. Величавая вышина монумента, его истовая простота и явная непричастность низменным нуждам так впечатляют Адама и Еву, что им видится за всем этим чувство куда более чистое, нежели то, какое думали выразить его создатели.
— Смотри, Ева, — молвит Адам, — это словно призыв к молитве.
— Так давай же помолимся, — откликается она.
Простим этим бедным детям, у которых нет ни отца, ни матери, их нелепую ошибку насчет смысла памятника, заложенного мужчиной и завершенного женщиной на достославной Банкер-хилл. Ведь что такое война, они знать не знают. И не могут сочувствовать отважным ревнителям свободы, покуда угнетение остается для них непостижимой тайной. А если бы им открылось, что эти мирные зеленые склоны были некогда усеяны трупами и обагрены кровью, их бы одинаково изумило и то, что какие-то люди когда-то учинили здесь побоище, и то, что их потомки торжественно увековечили память о кровопролитии.
Исполненные восхищенья, бредут они по зеленым лугам и вдоль берега тихой реки. На время отведем от них взгляд — и завидим их снова у крыльца серого каменного здания готической архитектуры, где от старого мира осталось лишь то, что он сам счел за благо запомнить, — возле книжной сокровищницы Гарвардского университета.
Дотоле ни одному студенту не доводилось наслаждаться таким одиночеством и такой тишиной, какая воцарилась теперь в глубинах библиотеки. Не очень-то, впрочем, понимают нынешние ее посетители, что за возможности им предоставлены. Однако же Адам озадаченно озирает длинные ряды корешков, стройные громады человеческих знаний, нависающих друг над другом с пола до потолка. Он берет увесистый том, который сам собой раскрывается у него в руках, как бы овеивая духом автора еще нетронутый, не запятнанный разум новоявленной смертной твари. Адам стоит и разглядывает ровные столбцы загадочных значков, словно вникая в них: ибо непонятный смысл страницы таинственно сроден его уму и тяготит, как вскинутое на плечи бремя. Что-то его даже мучительно смущает, он силится припомнить сам не ведая что. Ох, Адам, не спеши, не спеши — пройдет еще добрых пять тысяч лет, прежде чем ты наденешь очки и зароешься в книги!